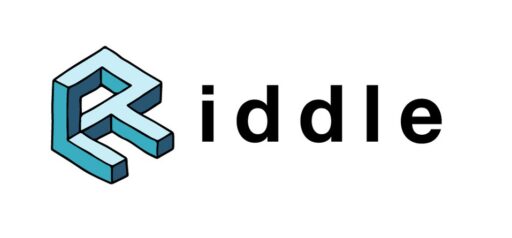Обострение ситуации в Идлибе в начале 2020 года привело к напряженности в отношениях между Анкарой и Москвой и прямой конфронтации сирийских войск с турецкими, результат которой — десятки убитых и сотни единиц уничтоженной техники. При этом текущая конфронтация вряд ли вытекала из логики развития российско-турецких договоренностей по Сирии последних лет. После провального Конгресса сирийского народа в Сочи в 2018 году наблюдалось сближение российской и турецкой позиций по Сирии, что получило свое оформление в договоренностях по Идлибу в сентябре 2018 года и меморандуме по северо-востоку Сирии, подписанному в Сочи в октябре 2019 года.
Визит Владимира Путина в начале 2020 года сперва в Дамаск, а затем в Стамбул, в ходе которого обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, казалось бы, окончательно закрепил достигнутые ранее между Турцией и Россией договоренности по Идлибу. «Мы подтверждаем значимость полного выполнения Меморандума от 17 сентября 2018 года и Меморандума от 22 октября 2019 года», — говорилось в совместном заявлении Владимира Путина и Реджепа Эрдогана по результатам переговоров 8 января 2020 года.
Однако дальнейшее обострение ситуации не только заставило задуматься о том, насколько Россия и Турция способны имплементировать достигнутые договоренности и влиять на других акторов, вовлеченных в конфликт, но также породило очередную волну критики как в отношении России со стороны турецкой общественности, так и в отношении Турции со стороны российской. Однако сложившаяся ситуация вокруг Идлиба интересна еще и тем, что она обнажила высокий уровень фрагментированности российской политики в отношении Ближнего Востока. Это, безусловно, затрудняет понимание для зарубежного наблюдателя того, как в России осуществляется процесс принятия решений в отношении региона.
Показательным является недавнее заявление Эрдогана, в котором он дает свою характеристику договоренностям с Москвой. «Кому верить? 3−4 дня назад я поговорил с Путиным. Это был отличный разговор. На следующий день появились заявления [российской стороны] с серьезными обвинениями в адрес Турции. Ничего подобного в беседе с Путиным не было. Что с вами? Значит, на верху одно, а внизу другое», — заявил Эрдоган, намекая на высокую степень рассогласованности между российскими властными институтами, отвечающими за принятие решений в отношении Ближнего Востока.
Фрагментация российской политики в отношении Ближнего Востока стала прослеживаться практически сразу после начала военной операции ВКС России в Сирии. После того, как Россия начала «возвращаться на Ближний Восток», где ей пришлось иметь дело с многочисленными негосударственными и квазигосударственными структурами, Москва была вынуждена прибегнуть к формату работы «параллельной дипломатии» из-за неспособности официальных структур, на которые возложено ведение внешнеполитической деятельности, эффективно решать поставленные перед ними задачи.
В первые годы российского присутствия в Сирии одной из «линий разлома» в российской политике в регионе стало соперничество между внешнеполитическим и оборонным ведомствами. После обострения отношений с Западом в 2014 году и последовавшей за этим активизацией Москвы на Ближнем Востоке МИД России рассматривал (и рассматривает) Сирию и Ливию в качестве дополнительных рычагов влияния на страны Запада. Логику российского МИД можно условно свести к следующему тезису: хотя Кремль и не способен решить ни ливийский, ни сирийский кризис, тем не менее в его арсенале находится достаточно рычагов влияния как для того, чтобы содействовать достижению компромисса между сторонами конфликта, так и для того, чтобы сделать этот компромисс труднодостижимым.
При этом чем более реалистичные очертания стал принимать сценарий втягивания Москвы в сирийский конфликт, тем более активную роль в российской ближневосточной политике начинало играть оборонное ведомство, извлекавшее из затяжного военного конфликта все большие дивиденды и заинтересованное в наращивании оборонных расходов, необходимых в том числе и для выполнения военных задач на Ближнем Востоке. И хотя официально МИД и Минобороны работают в тесном тандеме на сирийском направлении, с 2017 года стало ясно: силовики (военные и представители спецслужб) фактически отодвинули дипломатов на второй план, в том числе и потому, что под легендой сирийского примирения решались вопросы раздробления (через так называемые зоны деэскалации), ослабления и «примирения» оппозиции с сирийским режимом через договоренности с внешними игроками.
Министерство обороны России является главным в России лоббистом Халифы Хафтара, командующего т.н. «Ливийской национальной армией» (ЛНА). Однако у Сергея Шойгу недостаточно инструментов, чтобы сделать свой подход доминирующим в Кремле. Он вынужден мириться с линией МИД, а также спецпредставителя президента Михаила Богданова и идти на шаги, демонстрирующие подчинение. При этом именно Шойгу принадлежала инициатива пригласить на встречу с Хафтаром в Москве куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Источники считают, что сделано это было с целью убедить Путина поддержать Хафтара.
Еще одним проявлением фрагментарности российской политики в регионе стало постепенное привлечение Кремлем представителей, не связанных открыто с внешнеполитическими и разведывательными структурами, которые могли бы вести посредническую деятельность и налаживать эффективный диалог даже с официальными режимами исламских государств. В итоге своеобразным «мозговым центром» российской «параллельной дипломатии» стала администрация главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и разветвленная сеть его ставленников.
Например, ведение соответствующей работы было возложено на Льва Деньгова, получившего официальный статус «главы контактной группы по Ливии при МИД РФ» (Деньгов близок к Делимханову и Кадырову). В один ряд с этим ложится и «челночная» дипломатия Рамзана Кадырова, которую он ведет в отношении глав Ближнего Востока, в особенности руководителей стран Персидского залива. У него даже появился свой спецпредставитель на Ближнем Востоке — сенатор Зияд Сабсаби, который запомнился тем, что курировал программу репатриации из Сирии. Другой пример — Шамиль Бено, представлявший интересы Кадырова в странах Залива. Деятельность чеченских батальонов и наемников в Сирии и Ливии была призвана добавить большей весомости и убедительности главе Чечни в его переговорах с арабскими вождями.
Еще один важный элемент российской политики на Ближнем Востоке — деятельность частных военных кампаний, которые уже достаточно громко заявили о себе в Сирии, Ливии и даже в Африке южнее Сахары. С нашей точки зрения, деятельность ЧВК «Вагнер» хоть и курируется напрямую кадровыми военными, тем не менее носит в определенной степени обособленный характер от политики, проводимой Министерством обороны. При этом если в Сирии взаимодействие частных военных компаний и военных на данном этапе относительно высокое, то в Ливии оно носит ограниченный характер и сводится к планированию операций и их логистической поддержке со стороны оборонного ведомства. Несмотря на связь ЧВК с военными, активизация наемников не может считаться отражением официального подхода Москвы к ситуации в Ливии. Деятельность некоторых российских бизнесменов пока развивается по собственной инерции и завязана на разных игроков — не только на Хафтара, но и на акторов в Триполи и Тобруке (например, главу временного кабинета Абдаллу Абдуррахмана ат-Тани).
Столь широкий спектр взглядов и подходов со стороны российских официальных и неофициальных структур в отношении событий на Ближнем Востоке во много является отражением внутриполитического подхода, активно применяемого Владимиром Путиным. Его суть — разделяй и властвуй. Иными словами, власть российского лидера зиждется не столько на жесткой авторитарной вертикали власти, сколько на поддержании разобщенности различных внутриэлитных групп и умелом балансировании между их интересами. Применение аналогичной стратегии в отношении Ближнего Востока порождает конкуренцию между «мозговыми центрами» и не дает возможности ни одной из сил заметно капитализироваться за счет региональной повестки.
Главным бенефициаром такой стратегии становится сам Владимир Путин, за которым остается последнее слово по всем ключевым вопросам. Ближневосточный вектор российской внешней политики носил ярко выраженный персонифицированный характер и служил исключительно интересам первого лица. В этой связи логика российских действий на Ближнем Востоке в принципе не предполагает иного бенефициара, кроме самого Путина.
Причем выбор той или иной стратегии российским президентом из всех предлагаемых ему опций до сих пор остается одним из самых непредсказуемых этапов в российском процессе принятия решений. Иллюстрацией тому служат договоренности по Идлибу и северо-востоку Сирии, которые в течение последних двух лет были достигнуты в ходе непосредственных переговоров между Эрдоганом и Путиным (им предшествовала череда фактически безрезультатных контактов на министерском уровне и уровне спецпредставителей). Аналогичную картину мы наблюдаем и в настоящее время. Кажется, нескончаемый поток двусторонних встреч российских и турецких дипломатов и военных так и не может явить граду и миру решения идлибской проблемы. Однако логика развития событий подсказывает, что с большой долей вероятности искомый компромисс все же будет найден, как только оба лидера договорятся об очной встрече.
В то же время фрагментарный подход Кремля в отношении Ближнего Востока может рассматриваться как наиболее осторожная стратегия, которая имеет смысл, если речь идет о странах и регионах с высоким уровнем конфликтогенности и, как следствие, характеризующихся значительной непредсказуемостью. Российское руководство вряд ли чувствует себя уверенно в вопросах Ближнего Востока и желает минимизировать риски от возможных ошибочных решений. В этой связи тактика распределения яиц по разным корзинам выглядит для Кремля наиболее предпочтительной. Например, делать ставку лишь на политическое решение сирийского конфликта (равно как и пытаться решить его исключительно военным путем) было бы крайне опрометчиво. Это же можно сказать и про поддержку Москвой какой-либо одной военно-политической силы в Ливии, будь то ЛНА, Правительство национального единства или Бригады Мисураты. Попытка выстраивать широкий спектр отношений через различные официальные и неофициальные структуры позволит Москве уж точно не прогадать, хотя и не будет способствовать реализации принципа «победитель получает все».
Другими словами, диверсификация российского подхода к Ближнему Востоку является свидетельством осторожности Кремля, вытекающей из его же неуверенности в проводимой политике. Однако в условиях отсутствия сменяемости власти в арсенале Кремля постепенно остается все меньше возможностей для переосмысления и существенного изменения собственной политики и ранее принятых решений. В результате одни реакционные решения цементируются другими не менее (если не более) реакционными. И если в краткосрочной перспективе уязвимость данной стратегии не слишком критична, то со временем российские власти все больше будут ощущать себя заложниками собственных же решений. Диверсификация ответственности за реализуемую на Ближнем Востоке политику отчасти решает эту проблему. Но это помогает преодолеть симптомы, нежели справиться с причинами их появления.