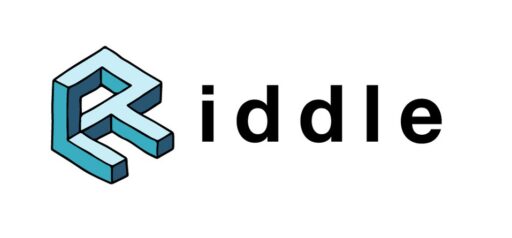В 2020 году окончательно развеялись иллюзии в российско-турецких отношениях. Это и хорошо, и плохо одновременно: с одной стороны, розовые очки искажают представление общества о реальной политике государства, с другой — машина госпропаганды вновь начинает работать на «эскалацию», что как минимум затрудняет объяснение новых перспективных компромиссов между Анкарой и Москвой.
Восприятие внешней политики Турции — один из феноменов российской пропаганды, демонстрирующей вынужденное «переобувание» всей большой медиатусовки. «Удар в спину» в 2015 году быстро сменился «дружбой» и рассуждениями о «разочаровании Турции в НАТО», а совместное поедание мороженого двумя президентами в 2019 году вроде бы подсластило отношения настолько, что поставки Анкаре С-400 стали восприниматься чуть ли не шагами к окончательному перетягиванию Турции на сторону России в противостоянии с Западом. На руку российской пропаганде играли зарубежные политики и аналитики, рассказывающие о якобы неизбежном уходе Анкары с западной орбиты. Даже ярые антитурецкие (вернее, антитюркские) эксперты с российского ТВ вынуждены были сбавить обороты, отложив возвращение к своим обычным «я же предупреждал» и «не зря мы столько раз воевали».
Медийный оборот о том, что прошлые российско-турецкие войны якобы препятствуют искреннему сотрудничеству, является проигрышным. Даже далекому от боевых действий человеку ясно: современные войны — тем более с участием ядерных держав — давно ведутся на территориях третьих квазигосударств и стран, утративших по тем или иным причинам часть своего суверенитета. Ведутся советниками, наемниками, группами спецназа и максимум артиллерией и авиацией (пилотируемой и беспилотной).
Другое дело, что президенты России и Турции крайне похожи друг на друга в плане лавирования между войной и миром для достижения внешнеполитических результатов, поэтому тягаться друг с другом им одновременно тяжело и легко. Тяжело, потому что контролируемая эскалация может перейти в разряд неконтролируемой, а легко — потому что хорошо понимают поведение друг друга.
Вспомним, что сначала произошло февральское обострение в Сирии, когда некая авиация якобы случайно уничтожила не менее 33 турецких военных, после чего турецкие военные выбили из строя столько сирийских сил и средств, сколько Асад не терял за целый год борьбы с оппозицией. Затем в Ливии при поддержке Анкары правительство нацсогласия не только лишило Хафтара монополии на наступление, но и заставило подвинуться российских «ихтамнетов», оснащенных, как выяснилось, даже средствами ПВО.
В сентябре у российско-турецких отношений начались испытания Карабахом. Осложняющим фактором здесь стал печальный инцидент со сбитым (со стороны азербайджанской Нахичевани) вертолетом Ми-24. Радикально настроенная патриотическая публика узрела в этом событии параллель со сбитым над Сирией в 2015 году российским фронтовым бомбардировщиком Су-24. Те же сторонники «Путин введи войска в Азербайджан» находили турецкий след в терактах в ЕС — якобы таким образом Анкара отвлекала внимание от своих внешнеполитических действий. Обвинения Турции во всех бедах — не только прихоть говорящих голов в телевизоре, но и реальный процесс, который Москва ведет в соответствии с некими интересами. Интересы эти не всегда укладываются в логику сотрудничества и логику поведения политической системы обеих стран. Официально Москва осторожно комментировала фактор Анкары в закавказском конфликте и связанную с этим информацию о сирийских боевиках, но неофициально — через дружественные СМИ — обвиняла Турцию в обострении и даже атаковала оппозицию в Сирии, вроде как готовящуюся к переброске в Карабах.
Закулисные двусторонки
Соглашение России, Армении и Азербайджана об окончании войны в Карабахе, казалось бы, поставило точку в боевых действиях — как минимум на пятилетний срок. При этом оно поставило жирную запятую в отношениях Москвы и Анкары. Настойчивые утверждения Минобороны Турции о совместной с Россией миротворческой миссии и неоднократные опровержения спикерами Кремля и МИД РФ информации о вводе турок в зону конфликта только подчеркнули имеющиеся разногласия, которые, впрочем, стороны привычно решили обсуждать кулуарно, за рамками трехстороннего документа.
Причина для такой «двусторонки» не столь очевидна с точки зрения понесших огромные потери Армении и Азербайджана, но логична с точки зрения Realpolitik: Россия и Турция определяют контуры работы мониторингового центра, который Эрдоган продавил своим президентским указом, и не скрывают, что их переговорные группы обсуждают Карабах и Сирию в одном кейсе.
Это не новая практика: ранее Москва и Анкара довольно четко увязывали ливийское досье с сирийским — например, устраивали в Москве переговоры главы сирийского Бюро национальной безопасности генерал-майора Али Мамлюка с главой турецкой Национальной разведывательной организации (MIT) Хаканом Фиданом во время попыток оформить соглашение между главой правительства нацсогласия Фаизом Сараджем и командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.
Соглашения о прекращении огня обычно являются краткосрочными, но детально проработанные документы имеют шанс установить прочный мир. С деталями у российской фрагментированной дипломатии есть довольно очевидные проблемы. Кремль привык заключать договоренности с обширным окном возможностей — наращивая часто довольно хрупкий скелет мясом по мере все новых угроз крушения этого остова. Остается гадать, намеренная ли это антикризисная установка (для интенсификации контактов перед лицом назревающей эскалации) или результат недочетов отечественной бюрократии. Так, например, в 2017 году во время установки зон деэскалации в Сирии Москва пыталась конкретизировать довольно сырой меморандум в ходе уже двустороннего — без участия Дамаска и Тегерана — диалога с сирийской оппозицией на условно независимой площадке в Каире. Это же произошло и с последующим сирийским меморандумом президентов России и Турции от 2019 года, в котором было зафиксировано создание буферной зоны и совместное российско-турецкое патрулирование, но отсутствовали важные и конкретные детали — например, пункт о порядке контроля флангов буферной зоны, который предотвратил бы столкновения оппозиции и курдов (а также развернутых в этом районе сирийских пограничников). В итоге эти столкновения происходят до сих пор.
Если оставить за скобками вариант со слабым понимаем своих возможностей, гипотетически сделки с открытым финалом могут быть предпочтительными для Москвы по двум причинам. Во-первых, из-за стремления быстро корректировать ход договоренностей, чтобы избежать собственного втягивания в активную фазу горячего конфликта. Это в свою очередь создает предпосылки для территориального бартера, который Москва и Анкара активно реализовывали во время сирийской кампании. Так, в 2016 году произошел обмен города Аль-Баб и севера Алеппо на фактическую сдачу восточного Алеппо войскам Асада. Во-вторых, предпочитать такие сделки Москва может из-за понимания того, что любое сотрудничество в условиях, когда у тебя нет настоящих союзников, имеет как свою логику, так и пределы, тем более что Россия и Турция насколько союзники в регионе, настолько и антагонисты.
По другую сторону блока?
На ливийском треке Россия де-факто оформила свое участие в антитурецком альянсе вместе с ОАЭ, Египтом и Саудовской Аравией, поскольку российские наемники на эмиратские деньги обеспечивали устойчивость их креатуры — командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Хафтара. Однако Москва и Анкара сумели найти формат взаимодействия, который позволил им не только не воевать друг с другом де-юре, но даже приблизить окончание ливийской войны. Москва смогла сделать ЛНА зависимой прежде всего от российской поддержки, а Турция — расширила свое влияние на правительство нацсогласия Ливии (ПНС). В итоге именно российско-турецкие консультации с одновременным наращиванием боевого потенциала противников, а не публичные угрозы Египта ввести войска в Киренаику, привели к прекращению активной фазы боевых действий на линии Сирт-Джуфра с постепенным запуском реального мирного процесса.
Анкара не скрывает своего возмущения достаточно тесными контактами Москвы с региональными соперниками Турции — прежде всего с Египтом и ОАЭ. Каир получает современные образцы вооружений, включая ЗРС С-300ВМ, истребители Су-35 и танки Т-90, а Эмираты не только поддерживают курдские формирования в Сирии, но и периодически пытаются убедить Дамаск и Москву в необходимости продолжения наступления на Идлиб, где турецкие военные соседствуют с оппозицией и препятствуют новому исходу сирийских беженцев и миграционному кризису. Однако такие контакты России с оппонентами Турции уравновешиваются сотрудничеством Анкары с Киевом (в том числе по линии военно-технического сотрудничества) и зачастую неоднозначной риторикой турецких чиновников по поводу Крыма. Представляется, что в Кремле в целом с понимаем бы относились к позиции Анкары в вопросе принадлежности полуострова и теме самоопределения крымских татар, если бы Турция не избирала для заявлений столь резонансную риторику, после которой российские СМИ начинают кампанию по «защите» Крыма от нео-османов.
Отсюда вытекает другая проблема, которая неохотно освещается в российской прессе, — о «государствообразующем народе». Хотя тюрки и мусульмане в России и являются меньшинством, но все-таки слишком значительным, чтобы его игнорировать. В этом смысле эмоциональные публикации и заявления российских политиков зачастую противопоставляют тюркские народы РФ «титульной нации» (приемлемость этого термина в современном мире — отдельная проблема), что не только не корректно в такой многоконфессиональной стране, но и даже опасно.
В условиях, когда у России есть известные проблемы в построении отношений с органичными союзниками, такие противоречивые отношения с Анкарой носят парадоксально позитивный характер для российской внешней политики. Так, несмотря на активную антитурецкую кампанию в российских СМИ и опасения роста влияния Анкары в Закавказье, оказалось, что именно фактор поддержки Турцией Азербайджана «обнулил» значимость откровенно аморфной Минской группы ОБСЕ и обеспечил России абсолютное доминирование в мирном процессе в Карабахе. Понятно, что теперь, когда Баку почувствовал реальность поддержки Анкары, азербайджанские чиновники вряд ли будут сильно возражать против гипотетического размещения турецких военных баз на своей территории, в том числе и тех, которые бы позволяли осуществлять контроль за каспийской акваторией, однако этот процесс будет более контролируемым, чем если бы активность Анкары осуществлялась скрытно.
В Закавказье и Центральной Азии после распада СССР возникли сферы «вакуума влияния», которые Россия не в состоянии заполнить, несмотря на всю риторику о доминировании на постсоветском пространстве. Но «свято место пусто не бывает», поэтому для противодействия любому влиянию нужно грамотно капитализировать свои вложения, а не надеяться на безусловную лояльность соседей и союзников по интеграционным площадкам. Другое дело, что Анкара на самом деле испытывает такой же дефицит финансовых ресурсов, как и Москва, поэтому зачастую ее программы по развитию сотрудничества среди тюркских народов носят номинальный характер. В то же время для российского руководства куда опаснее ползучая китайская экспансия на постсоветском пространстве. Она не воспринимается столь остро, но возрождение условной «империи Хань» куда опаснее нео-османизма, поскольку КНР гораздо ближе к наиболее уязвимым и слабозащищенным местам России, где сосредоточены ее основные богатства — нефть, газ и прочие полезные ископаемые.