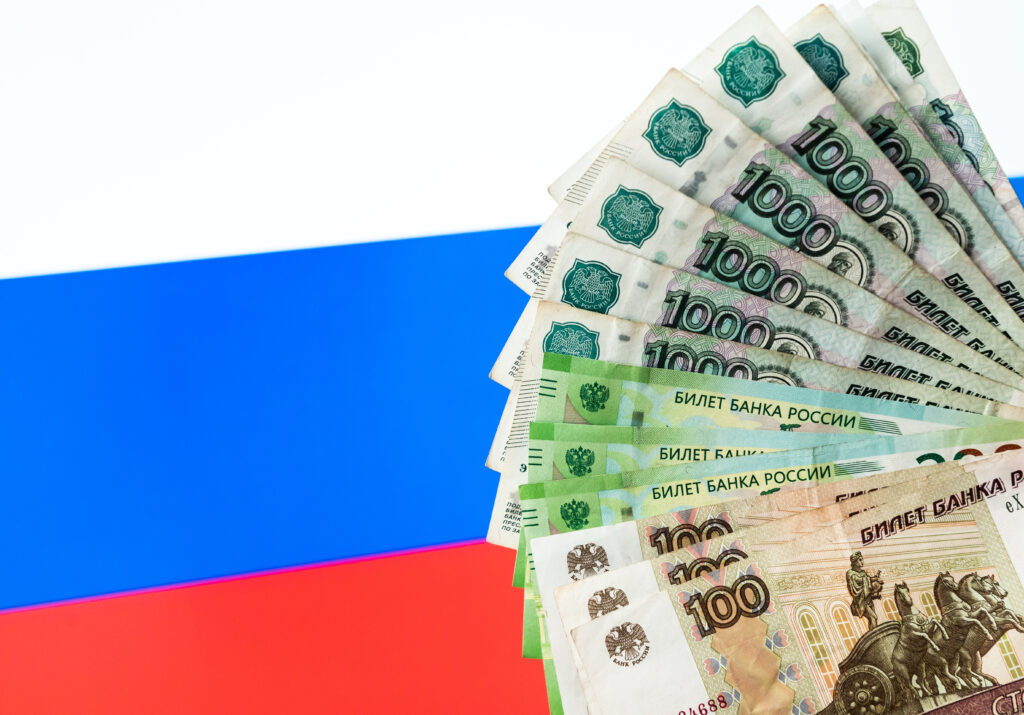Россия, как и многие страны с высоким и средним уровнем доходов, страдает от проблемы геронтократии. Большинство ключевых фигур, определяющих судьбу страны, перешагнули 70-летний рубеж или вплотную приблизились к нему. В возрастной группе 50−59 лет зияет настоящая «кадровая дыра»: людей этого возраста, которые по логике должны были бы уже подниматься к вершинам власти, практически нет — за редкими исключениями. Подобно тому, как демографическая пирамида России искривлена войнами, экономическими потрясениями и хронически низкой рождаемостью, пирамида политических элит оказалась столь же деформированной — но по иным причинам.
Геронтократический «затор» на самой верхушке имеет два критических последствия. Во-первых, пожилые лидеры в среднем демонстрируют меньшую когнитивную гибкость, чаще откладывают реформы и медлят с внедрением непопулярных решений внутри своих институтов. Во-вторых — и это, пожалуй, важнее, — поколение, аналогичное западным «бэби-бумерам», десятилетиями удерживает ключевые посты, полностью перекрывая нормальный лифт социальной мобильности. В результате представители молодых поколений не получают ни опыта, ни шансов на продвижение в жестко иерархичной авторитарной системе.
Задержка в ротации элит особенно бросается в глаза в силовых ведомствах. Этот «секьюритизированный бумеризм» — когда во главе силовых структур стоят кадры, сформировавшиеся еще при Брежневе и Горбачеве, — представляет собой поколенческую бомбу замедленного действия. Когда нынешние патриархи все-таки освободят кресла, их сменщики придут к рычагам управления с большим опозданием, и страна еще долго будет расплачиваться за этот провал.
Показательно, что после долгого промедления российская военная диктатура все-таки признала надвигающуюся беду. Совсем недавно Владимир Путин весьма недвусмысленно дал понять, что необходимо вливать «свежую кровь» в политические институты. То есть Кремль проблему понимает. И осознает, что она не решается.
Пока что почти все разговоры о решении «проблемы бумеров» сводятся к попыткам кооптировать и продвинуть амбициозных ветеранов войны в Госдуму и региональные структуры. Официального признания, что система требует массового ухода седых патриархов на пенсию, как не было, так и нет. Засидевшимся в своих креслах элитариям проще смириться с молодыми ветеранами в институтах на нижних этажах иерархической лестницы, чем расчищать место на самой вершине и освобождать собственные кабинеты. Смена поколений в любом случае произойдет, но пятнадцатилетняя задержка сделает этот переход резким и болезненным, и первые последствия этой кадровой ошибки проявятся уже в ближайшее десятилетие.
Бумеризм а-ля рус
Передача власти от одного поколения элиты к другому почти всегда сопряжена с серьезным напряжением — независимо от типа режима. «Стандартная» современная модель довольно проста: амбициозные элиты начинают занимать низовые должности в 30−40 лет, выходят на министерские посты на исходе четвертого десятка, а самые высокие позиции — президентство или премьерство — получают, приближаясь к 60 годам или слегка перевалив за эту отметку. Впрочем, эта модель вовсе не универсальна, а в некоторых странах, где прежде продвижение по карьерной лестнице подчинялось этому принципу, в последние годы наметилась иная тенденция. Например, с середины 2010-х гг. отход от общего правила наблюдается в США, где политики 60−80 лет неожиданно вцепились в высшие посты мертвой хваткой.
На фоне США и некоторых стран Западной Европы российский кейс не выглядит таким уж радикальным. Однако среди крупных авторитарных режимов Россию по количеству 60−70-летних представителей элиты, принимающих или влияющих на решения, превосходят разве что стареющие клерикальные кадры Ирана и седеющее Политбюро Китая. Мир диктатур в этом смысле делится надвое: с одной стороны — ветераны, с другой — поразительно молодые лидеры: 40-летний наследный принц Саудовской Аравии, 44-летний «миллениал-автократ» Сальвадора, а также новые хунтовские вожди Сахеля — 41-летние президенты Мали и Чада и 37-летний глава Буркина-Фасо.
Российский случай «секьюритизированного бумеризма» особенно ярко выражен в «силовых элитах» — среди тех, кто занимает посты в органах безопасности и вооруженных силах или вышел из этих структур. Кроме президента Владимира Путина (73 года), в эту когорту входят: Николай Патрушев (помощник президента, 74 года), Александр Бортников (директор ФСБ, 73 года), Александр Бастрыкин (председатель Следственного комитета, 72 года), Виктор Золотов (директор Росгвардии, 71 год), Сергей Шойгу (секретарь Совета безопасности, 70 лет), Валерий Герасимов (начальник Генштаба, 70 лет). Не молоды и сравнительно новые назначенцы: министру обороны Андрею Белоусову уже 66 лет, а генпрокурору Александру Гуцану — 65. Три года назад «Важные истории» подсчитали, что медианный возраст членов Совета безопасности составлял 65 лет, руководства администрации президента — 57 лет, а членов правительства — 55 лет. Среди гражданских чиновников наблюдается похожая возрастная картина: например, председателю Совфеда Валентине Матвиенко 76 лет, а мэру Москвы Сергею Собянину — 67.
Отсутствующая середина
Российское «поколение X» закрепилось преимущественно на губернаторском уровне: за последние пять лет там прошла заметная ротация. Однако эта «смена крови» запоздала лет на десять: она должна была стартовать в начале 2010-х, а не в начале 2020-х гг. Эта задержка вызвана внутрирежимным откатом после возвращения Владимира Путина в Кремль в 2012 году. Дмитрий Медведев (60 лет) за четыре года своего президентства стал катализатором обновлений, расставив на важные посты лояльных себе чиновников. Однако с возвращением Путина программа «омоложения» свернулась, а некоторые медведевские назначения Путин и вовсе отменил. «Поколение Медведева» оказалось мертворожденным: его представители так и не набрали ни серьезного управленческого опыта, ни собственных клиентел.
Исключение, подтверждающее правило, — небольшая, но важная группа «отличников», которым удалось сохранить расположение Кремля. К этой когорте относятся Вячеслав Володин (председатель Госдумы, 61 год), Сергей Кириенко (первый замглавы АП, 63 года), Антон Силуанов (министр финансов, 62 года), Эльвира Набиуллина (председатель ЦБ, 62 года) и Михаил Мишустин (премьер-министр, 59 лет). Большинство из них вырвалось на политическую орбиту еще в поздние ельцинские и ранние путинские годы, а не в «потерянное десятилетие» 2010-х. Именно эти политики станут ключевыми узлами внезапной смены поколений, которая развернется в перспективе ближайших пяти лет или около того. У них есть институциональный вес и накопленный опыт, но их критически мало — и все они находятся вне силового блока.
Впрочем, представители этой малочисленной группы постоянно рискуют попасть в немилость политического ядра бумеров. Можно, например, вспомнить, как бывший секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак (49 лет) в 2024 году был внезапно и без церемоний сослан губернатором в далекую республику Алтай — за то, что задел чьи-то интересы на верхних этажах режима. Многих других подающих надежды губернаторов и мэров система раздавила по отработанной схеме с использованием внезапных — и обычно политически мотивированных — обвинений в коррупции. В элите военной диктатуры опасно занимать средний этаж — и еще опаснее находиться в среднем эшелоне было в 2010-е гг., когда исполнительная вертикаль стремительно сжималась в кулак.
Постсоветское поколение
Сдерживаемый процесс развития и смены элит высшего эшелона в итоге привел к запоздалому притоку в систему новых фигур в возрасте от 40 до 50 с небольшим лет. Однако фактический «стеклянный потолок» на должности, занимаемые российскими «бумерами», привел к тому, что новых ключевых людей приходится назначать внезапно. Вместо постепенного, естественного карьерного роста — когда элита накапливает навыки, переходя с одной должности на другую, — мы наблюдаем практически молниеносное продвижение по карьерной лестнице ряда фигур, которые зачастую оказываются детьми или родственниками представителей того самого «ядра», состоящего из бумеров. К ним относятся: племянница Путина Анна Цивилева (замминистра обороны, 53 года), сын Николая Патрушева Дмитрий Патрушев, (вице-премьер, 48 лет), экс-телохранитель Путина Алексей Дюмин (секретарь Госсовета, 53 года), сын Сергея Кириенко Владимир Кириенко (гендиректор VK, 42 года), сын Юрия Ковальчука Борис Ковальчук (глава Счетной палаты, 47 лет) и дочери самого Путина — Мария Воронцова (40 лет) и Катерина Тихонова (39 лет).
Продвижение этой когорты порождает странную динамику. Узкая прослойка российской высшей элиты «поколения Х» со временем унаследует власть, но ей придется соперничать с внезапно возвысившимися «нувориш-аристократами», связанными родственными узами с нынешним руководящим ядром. А те, в свою очередь, будут конкурировать с другими запоздалыми проектами омоложения элиты, в том числе с выпускниками различных управленческо-технократических проектов Сергея Кириенко («Лидеры России», «Школа губернаторов», «Школа мэров» и ориентированная на ветеранов программа «Время героев»).
Проблема преемственности — самый больной вопрос для российского режима. Но речь не только о том, кто лично сменит Владимира Путина. Речь о смене поколений на всем гигантском архипелаге властных кабинетов. Вырастить «следующую смену» — вечная головная боль. История России знает и долгие периоды застоя в элитах, и резкие рывки вперед. Остаток 2020-х пойдет по второму пути: те, кого должны были вводить в систему еще десять лет назад, теперь внезапно окажутся у штурвала авторитарного корабля. Имена, которые сегодня почти никто за рубежом и не слышал, будут всплывать одно за другим. А те, кто ставит этих людей на ключевые посты прямо сейчас, и определят, какой будет российская элита завтра.