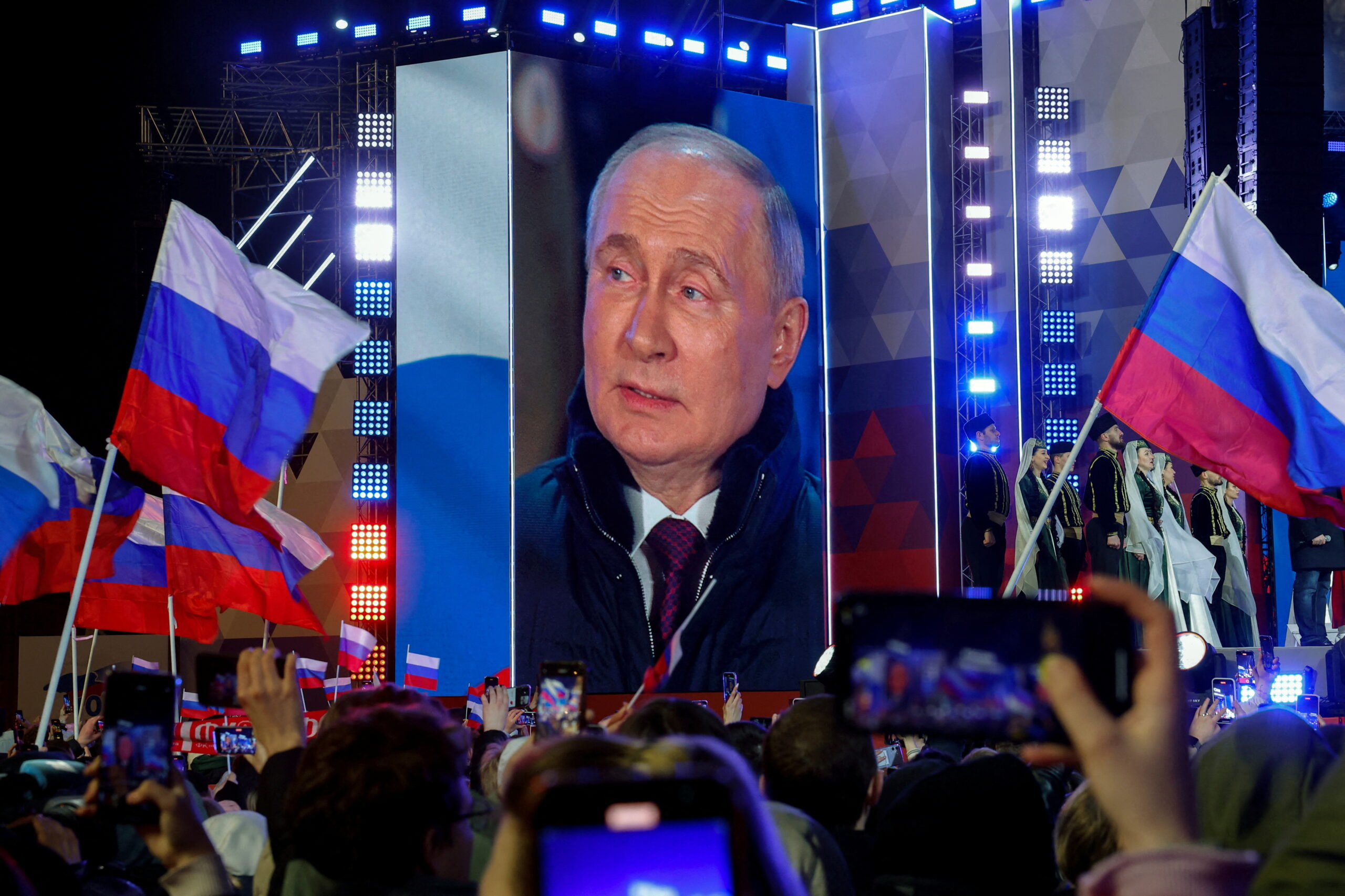На фоне продолжающейся войны долгосрочные перспективы военно-морского флота России зачастую выпадают из фокуса внимания. Однако эти перспективы сегодня тоже во многом предопределяются именно российской агрессией против Украины. Так, Финляндия окончательно присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года, и это присоединение, равно как и неизбежное присоединение к Альянсу Швеции, сделало анахронизмом обновленную летом 2022 года российскую морскую доктрину — как минимум в той части, которая касается Балтийского и Северного флотов. И если вспомнить, что прологом и предлогом к российскому полномасштабному вторжению в Украину во многом явился декабрьский ультиматум 2021 года, по которому НАТО должна была, среди прочего, отказаться от своего дальнейшего расширения, становится понятно: Москва сегодня гораздо дальше от своих внешнеполитических целей, нежели была до 24 февраля 2022 года.
В апреле 2023 года произошла смена командующего Тихоокеанского флота (ТОФ), потянувшая за собой и смену командующего Балтийского флота. Адмирал Сергей Авакянц был отправлен в отставку в последний день внезапной проверки боеготовности ТОФ, и его место занял адмирал Виктор Лиина, до этого всего полтора года командовавший российским флотом на Балтике. Место Лиины занял вице-адмирал Владимир Воробьев, до этого полтора года бывший заместителем начальника генерального штаба. Параллельно с этой ротацией был озвучен план переподчинения флотов главному командованию ВМФ вместо подчинения командующим соответствующих военных округов, то есть, по сути, речь идет о возвращении к советской системе командования флотами.
Одновременно стало известно, что Россия, похоже, отказывается от планов по модернизации и перевооружению атомного крейсера «Петр Великий», который пойдет на списание после возвращения в строй однотипного корабля «Адмирал Нахимов» в 2024 году.
На заднем плане ведущейся сухопутной войны российские морские силы уже не смогут продолжать существование в парадигме последних десятилетий, когда Кремль стремился развивать их в виде уменьшенной и оптимизированной копии советского флота. При этом действия российской власти в сфере ВМФ со всей очевидностью демонстрируют, что она предпочитает путь перенапряжения сил ради того, чтобы только ничего в существующем военном, внешне- и внутриполитическом политическом курсе не менять.
Отсюда следует, что и нынешний подход Кремля к самой войне против Украины, также сопряженный с явным перенапряжением сил, — это не аберрация, а системный политический курс. И он не может быть исправлен волевым отказом российского руководства от войны ради интересов нормализации внутренней жизни, да и даже военным поражением самим по себе. Он может быть изменен только после смены политической системы и серьезной ротации политической и военной элиты.
Некоторые аспекты военного потенциала Финляндии (и не только)
Несмотря на то, что население Финляндии практически совпадает с населением Санкт-Петербурга по численности, она обладает одной из самых боеготовых армий на Европейском континенте. Система комплектования ее вооруженных сил рассчитана на то, чтобы в военное время развернуть для защиты страны до 280 тысяч человек (до 2017 года эта цифра составляла около 230 тысяч). Такое количество сопоставимо, например, с численностью российских сухопутных войск накануне вторжения в Украину.
Кроме того, Финляндия в декабре 2021 года анонсировала перевооружение своих военно-воздушных сил: 64 истребителя F-35A будут поставлены в 2026—2030 гг., хотя нельзя исключать, что они могут прибыть в страну и раньше. Учитывая, что боевой радиус этих самолетов составляет около 1000 км, в зоне их досягаемости гипотетически окажутся все базы Балтийского и Северного флотов и даже верфи в Северодвинске, где строятся и ремонтируются атомные подводные лодки, а также проходят ремонт другие военные корабли.
Завершение присоединения Финляндии к НАТО и предстоящее присоединение к Альянсу Швеции дали дополнительный стимул к оборонной интеграции на региональном уровне. В середине марта 2023 года Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция подписали декларацию о создании региональных военно-воздушных сил в количестве от 200 до 250 многоцелевых боевых самолетов (F-16, F/A-18, F-35 и SaabJAS 39). У России гораздо больше истребителей, штурмовиков и фронтовых бомбардировщиков, но наиболее продвинутых из них ⸺ истребителей Су-30СМ и Су-35 и истребителей-бомбардировщиков Су-34 ⸺ всего около 300 единиц. Таким образом, совокупный потенциал ВВС скандинавских стран оказывается вполне сопоставимым с тем, что ему может противопоставить Россия. И с учетом происходящего увеличения у этих стран парка истребителей F-35 качество этого совместного потенциала будет существенно превосходить то, что будет у России в нынешнем десятилетии.
Это если вообще вывести за скобки вопрос подготовки самих пилотов, с чем у российской стороны есть серьезные проблемы. Так, например, российские военные летчики достигают уровня, позволяющего им выполнять боевые задачи, только к 27−28 годам, а в 32−35 лет 80% из них уже увольняется по состоянию здоровья. Кроме того, типичный годовой налет российского военного летчика составляет формально 80−100 часов, хотя на практике час учебной и боевой подготовки в ВС РФ равен 50 минутам и, вероятно, реальный налет оказывается меньше формального. Это позволяет ему лишь поддерживать навыки управления самолетом или вертолетом и выполнять стандартные задачи.
Вопрос сопоставления собственно флотов можно в принципе опустить. В Балтийском море российские военные корабли и единственная дизель-электрическая подводная лодка фактически запираются на базах в Балтийске и Кронштадте. Причем с 2014 года происходили инциденты, которые говорили в пользу осознанного курса Москвы на усиление конфронтации с Западом и в этом регионе тоже. Правда, в условиях ограниченных производственных возможностей флот насыщался малыми ракетными кораблями, катерами и десантными катерами. Также происходило увеличение и усиление его сухопутной компоненты (11-й армейский корпус), авиации и противовоздушной обороны. Однако эти усилия имели смысл лишь при условии, что Финляндия и Швеция остаются вне НАТО ⸺ только так Кремль мог рассчитывать, что в случае эскалации у него останется в регионе пространство для маневра. Со вступлением Финляндии в Альянс (и несмотря даже на задержку с окончательным вступлением в него Швеции) пространства для маневра больше не остается.
У Северного флота с его стратегическими и многоцелевыми атомными субмаринами, а также надводными силами в Баренцевом и Белом морях сокращается возможность для выхода в Атлантику. Зато появляется необходимость усиливать его авиацию и противовоздушную оборону, а также, разумеется, наземный компонент. Проще говоря, если ничего не менять, то на Кольском полуострове необходимо создавать т.н. «зону запрета доступа» (A2/AD zone) по аналогии с той, что создана в Калининградской области. И этот вопрос приобрел дополнительную актуальность в связи с экстренным перебазированием осенью 2022 года стратегической авиации с авиабазы в Энгельсе на авиабазу в Оленегорске.
Становится необходимым и расширение инфраструктуры Северного флота к востоку от Кольского полуострова, вдоль Северного морского пути ⸺ подальше от авиации новых членов НАТО. Однако такое потенциальное восточное смещение поднимает уже куда более сложный вопрос: для чего этот флот, который будет вынужден постоянно заниматься спасением себя во льдах Арктики, вообще нужен России в своем нынешнем виде?
Флот на суше и перенапряжение России
В этой ситуации самым рациональным шагом являлось бы, как минимум, серьезное сокращение сил Северного флота и отказ от самой идеи существования Балтийского флота. В последнем случае стоит учесть еще один исторический аспект: этот флот (как, к слову, и Черноморский) с начала XVIII века существовал для экспансии и для поддержки сухопутной армии, наступающей в западном направлении. Удивительно, но по числу больших десантных кораблей он, особенно до потери БДК «Саратов» в порту Бердянска в марте 2022 года, незначительно уступает Черноморскому флоту, а по числу малых десантных кораблей и катеров даже превосходит его.
В новейшей истории Россия исходила из того, что флоты ей нужны не только и даже не столько для обороны, но для наступательных действий ⸺ для проекции силы. Об этом же свидетельствует и пункт 26 российской военной доктрины от 25 декабря 2014 года: «В рамках выполнения мероприятий стратегического сдерживания силового характера Российской Федерацией предусматривается применение высокоточного оружия». И если для Балтийского флота главным театром действий все последние годы планировался именно балтийский регион, несмотря на участие отдельных кораблей в операциях против сомалийских пиратов, в сирийской кампании и в войне против Украины, то Северному флоту традиционно отводится глобальная роль даже помимо задачи ядерного сдерживания. И сохранять его глобальную роль, и формировать обширную «зону запрета доступа» вдоль новой границы с НАТО в Арктике ⸺ это весьма сложная и крайне затратная задача. Вероятный отказ России от атомного крейсера «Петр Великий» является подтверждением этого тезиса. Это, правда, вовсе не означает, что Москва отказалась от идеи создания новых ракетных кораблей с ядерной энергетической установкой.
Понятно, что в нынешних даже не столько внешнеполитических, сколько внутриполитических реалиях Кремль уже не может отказаться от объективно избыточных морских сил и планов по их обновлению и перевооружению в пользу, например, сил береговой охраны. И он также не может перераспределить дееспособные корабли и субмарины на Тихий океан, где они еще могли бы сыграть роль искомого внешнеполитического рычага, приписываемую ВМФ на доктринальном уровне.
Другими словами, вместо критического переосмысления своего долгосрочного подхода к развитию своих военно-морских сил, Кремль предпочитает путь очевидного перенапряжения сил ради того, чтобы ничего в этом подходе не менять. Это еще и призвано сохранять градус конфронтации с Западом вне зависимости от того, как развивается война против Украины. Проще говоря, на примере кажущегося сегодня второстепенным сюжета с российским ВМФ и расширением НАТО видно, что взятый курс на перенапряжение сил ⸺ не случайное стечение политических обстоятельств и решений отдельных лиц, а системное явление. Это состояние нынешней российской политической системы в целом. И если нынешняя российская власть окажется способной сохранить себя, то также сохранится и этот курс с закреплением практик чрезвычайного правления.
Правда, сохранение нынешнего курса означает три возможных сценария. Первый сценарий: постепенная, хоть и с тенденцией к ускорению организационная и техническая деградация ВМФ при сохранении действующей системы власти в России в условиях ограниченных ресурсов, противодействие которой, как и аналогичные действия в других сферах, будут отнимать все больше сил. Второй сценарий: попытка использования российских флотов, пока они хоть на что-то способны в военном отношении, для открытого столкновения с НАТО или их союзниками, учитывая, что эти силы в меньше степени пострадали от участия в военных действиях. Третий сценарий, возможный только после трансформации российской политической системы: отказ от курса на перенапряжение сил и перерасход ресурсов с серьезным и управляемым сокращением ВМФ.