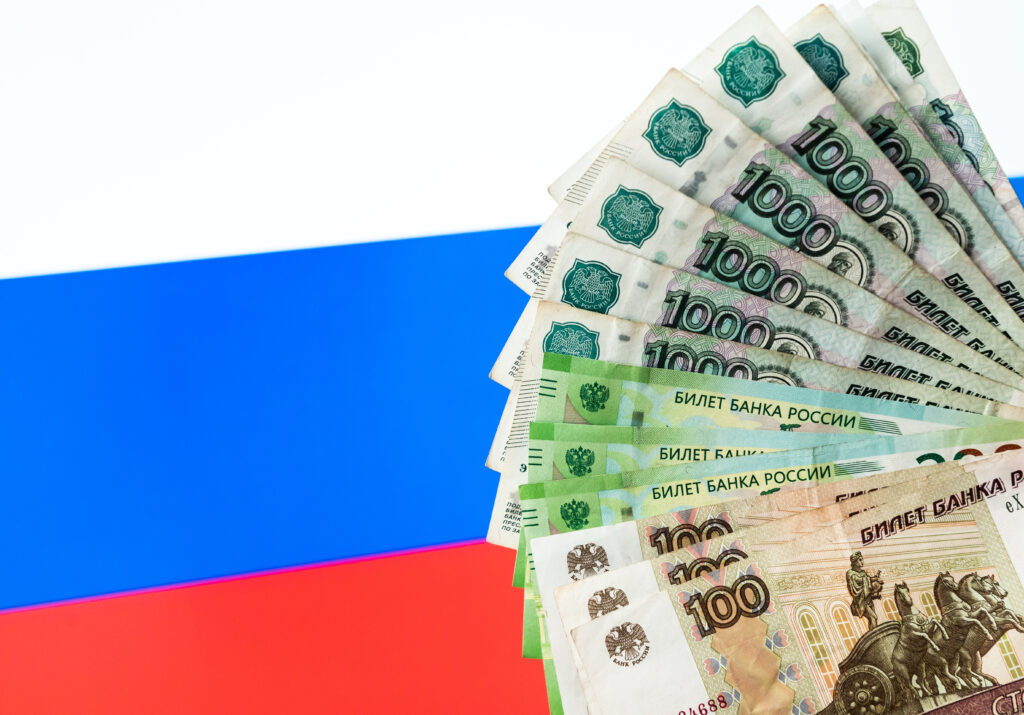Через несколько дней закончится лето, и экономическая тематика вновь окажется в центре внимания. К новому «сезону» в России накопилось немало проблем, которые, в зависимости от идеологической позиции аналитиков, описываются в терминах от «замедления» до «катастрофы». Споры о масштабах этих проблем идут давно, но сегодня мы сосредоточимся именно на их причинах. Среди них чаще всего называют масштабное отвлечение финансовых, материальных и человеческих ресурсов на агрессию против Украины, сокращение бюджетных средств на гражданские сектора экономики, последствия санкций и других внешних ограничений, включая падение доходов от экспорта, а также дестабилизацию финансовой сферы, проявляющуюся в росте цен и повышении процентных ставок для их сдерживания. Каждый из этих факторов действительно наносит российской экономике серьезный ущерб. Однако в этой статье мы обратим внимание на другие, менее обсуждаемые, но, возможно, более значимые аспекты.
Проблема недостатка ресурсов — финансовых, материальных, людских — считается главным ограничительным фактором, и спорить с этим не стоит: мы видим, как Эльвира Набиуллина уже давно обращает внимание на дефицит рабочей силы, как резко нарастает бюджетный дефицит и насколько тяжело приспосабливается (а порой не приспосабливается вообще) промышленность к отсутствию импортных комплектующих или износу оборудования. Все эти тезисы подтверждаются количественно: военные расходы выросли более чем в четыре раза, с 3,1 до 13,5 трлн рублей; безработица среди трудоспособного населения сократилась с 4,3% в конце 2021 года до 2,2% в мае 2025-го; бюджетный профицит в 524 млрд рублей в 2021 году сменился дефицитом в 4−5 трлн рублей в 2025 году. Однако эти лефициты должны рассматриваться прежде всего как относительные: да, бюджетные поступления нефтегазовых доходов в бюджет сократились, а его расходы остаются высокими — при этом у властей есть широкие возможности увеличивать заимствования, а вклады населения в банках выросли за время полномасштабной войны вдвое (конечно, их нельзя просто конфисковать — риски такого решения очевидны), и привлечь их под повышенную ставку не составляет труда. За последние месяцы резко упали темпы притока контрактников в армию, но повышение выплат может легко переломить этот тренд. Люди в России не выйдут на протесты даже при существенном снижении их реальных доходов (подобный период мы проходили в 2014—2020 гг.), поэтому сокращение социальных расходов и рост зарплат ниже уровня инфляции не выглядят в нынешней ситуации значительными факторами риска. Экономические факторы сами по себе не приведут к остановке войны.
Разговоры о российской «военной экономике» (или «военном кейнсианстве») игнорируют ключевой факт: в 2025 году ее основы принципиально отличаются от тех, что были в 2022 году. В первые месяцы полномасштабной войны власти сделали ставку на либерализацию и дерегулирование. После десятилетий формализации прав интеллектуальной собственности и «борьбы за защиту прав потребителей» за считанные дни были отменены патентные права на множество продуктов и технологий, допущено цифровое пиратство и легализован «параллельный импорт» товаров, чьи производители объявили об уходе с российского рынка — то есть, импорт той продукции, которая могла не иметь надлежащей сертификации, а также не подлежала гарантийному обслуживанию. Органы финансового надзора — тот же Банк России — тогда разрешили кредитным организациям не соблюдать (а в некоторых случаях и не разглашать) показатели нормативов ликвидности, даже зафиксировав, например, «довоенные» оценки стоимости обесценившихся в первые месяцы санкционной политики активов. Было принято множество решений о кредитных каникулах; введен мораторий на корпоративные банкротства; сокращены проверки и контроль за малым и средним бизнесом, а права и возможности самозанятых расширены (за счет чего их число всего за три года выросло с 3,5 до более чем 13 млн человек). Рынок труда, несмотря на шок от мобилизации и эмиграции 2022 года, оставался динамичным, подпитываясь притоком трудовых мигрантов благодаря росту зарплат и укреплению рубля в 2022—2023 гг. Именно рыночная и частная природа российской экономики позволила ей выстоять в первые годы войны: инициатива бизнеса позволила и перестроить логистику поставок, и воспользоваться новыми каналами импорта, и даже создать «теневой флот» для экспорта нефти.
Сложилась ситуация, в которой восстановление советских геополитических конструкций стало производиться с использованием самых что ни на есть рыночных методов. Это ярко проявилось в контрасте между непопулярной мобилизацией и успешной коммерческой вербовкой в армию, в ходе которой власти в различных регионах соревновались друг с другом в заманивании граждан на убой за счет повышения премий за подписание контракта. Эта система, несмотря на отдельные недостатки, доказала свою эффективность: почти все эксперты признали, что устойчивость российской экономики в 2022—2023 гг. превзошла их ожидания.
Спустя три с половиной года после начала полномасштабной агрессии мы наблюдаем совершенно иную картину. Вместо либерализации в сфере интеллектуальной собственности — жесткое навязывание «российского софта», соцсетей и средств передачи данных. Вместо упрощения импорта — принудительное импортозамещение для поддержки неэффективных отечественных производств (например, требование использовать российские автомобили в такси). Вместо облегчения долговой нагрузки -скачок ставок, тотальное навязывание кредитов с плавающим процентом и свертывание льготных кредитных программ. Обещания стабильной налоговой политики сменились повышением налогов: сначала точечным для крупных экспортноориентированных компаний, а затем более массовым (рост подоходного налога, а с 2026 года, вероятно, и большинства налогов на малый и средний бизнес). Ограничения тарифов уступили место их ускоренному повышению, хотя при этом власти все чаще рассуждают о введении фиксированных цен на «социально значимые» товары. Отмена ряда нормативов и ограничение проверок забыты — пришло время фискального террора (до соответствующих структур был доведен план за ближайшие годы собрать только штрафов почти на 600 млрд). При повсеместно признанной нехватке рабочей силы введены не просто ограничения на приток мигрантов (изначально запущенные как реакция на теракт в Крокус Сити Холле), но и «точечные» запреты на использование их труда в наиболее «чувствительных» секторах сферы услуг: коммерческих перевозках, общественном питании и даже курьерских службах. Запрет на общение в западных мессенджерах под надуманными предлогами борьбы с телефонным мошенничеством существенно повысит затраты бизнеса на услуги связи, распределяя финансовые потоки в пользу заинтересованных монополистов. Сообщения о новых запретах дополняются отчетами силовиков о конфискации того или иного предприятия в пользу государства.
В этой ситуации возникает ощущение, что советская геополитика теперь реализуется на базе стремительно советизирующейся экономики. Ни внешняя конъюнктура, ни санкции, ни неспособность российских фирм к инновациям не наносят сегодня отечественной экономике ущерба, сравнимого с обеспечиваемым действиями самого Кремля и его силовых структур. Власти сами уничтожают ту основу, на которой базировались успехи 2022−2023 гг.: никакие бюджетные расходы не могут обеспечить экономический рост, если их получателями не являются конкурирующие между собой частные предприятия, а бизнес не уверен ни в собственной свободе, ни в гарантиях прав собственности, ни в устойчивости объявленных законов и правил. Те инициативы, которые для многих выглядят как инструмент спасения экономики, наполнения бюджета и обеспечения конечной победы, являются на деле гарантами приближения кризиса, увеличения дефицитов и этапами пути к военному разгрому.
«Советизация» экономики проявляется также и в «раскоординации» управления. В феврале-апреле 2022 года экономические ведомства — от Банка России до Минфина и налоговой службы — действовали слаженно, согласовывая решения в разы быстрее бюрократических норм и оперативно корректируя их при необходимости. Однако в последний год все чаще наблюдаются столкновения и противоречия интересов, а то и просто полная рассогласованность действий министерств и ведомств. Яркий пример — обвал курса рубля осенью прошлого года, когда Минфин требовал ускорить закупку валюты в резервы, а Банк России повторял, что курс должен складываться рыночным образом. Результатом стала паника, остановленная простым объявлением о прекращении покупок валюты на внутреннем рынке со стороны ЦБ. В 2025 году разнобой в заявлениях чиновников достиг пика на Петербургском экономическом форуме.
И такое положение вещей вряд ли изменится — прежде всего потому, что сейчас никто не может (и не хочет) дать ответ на очевидные вопросы: пойдет ли Кремль на прекращение войны и хотя бы временное перемирие или война лишь интенсифицируется; является ли политика «закручивания» гаек единственной перспективой или нет; будет ли предпринята попытка повышение эффективности работы Минобороны, или таковой считается в новых условиях только объем «освоенных» бюджетных средств без оглядки на результаты, как это обычно и бывало в советские времена?
Поэтому ответ на вопрос о состоянии российской экономики следует искать не в динамике военных расходов и не в масштабности западных санкций, а в экономической политике Кремля. Эта политика обусловлена не «объективными обстоятельствами», а субъективными заблуждениями и некомпетентностью нынешней российской элиты. Ее примитивные представления об истории сфокусированы на геополитических и военных достижениях Советского Союза, что трансформируется во мнение о явных и очевидных достоинствах советской экономической модели. Однако успехи СССР в основном достигались не благодаря, а вопреки существовавшей в стране хозяйственной модели, которая не давала в полной мере использовать человеческий и ресурсный потенциал, а также вела к его бездарной растрате ради достижения идеологических задач.
В советской истории было два периода, в той или иной степени сопоставимых с последними тремя десятилетиями российской истории: 1921−1928 гг. и 1955-начало 1960-х. В результате переоценки ряда прежних шагов экономике в эти периоды позволялось (и то с большой степенью условности) развиваться по собственным законам — и итогом были высокие темпы роста, повышение уровня жизни населения и даже формирование основ для технологического прогресса. В обоих случаях советские власти свернули с разумного курса вовсе не по причине изменения внешних обстоятельств, а исключительно из-за логики внутриполитической борьбы и обеспечения устойчивости режима. Точно так же война в Украине и последние изменения в экономической политике — это не реакция на внешние обстоятельства, а следствие желания «силовой» элиты сохранить власть вопреки потребностям экономики.