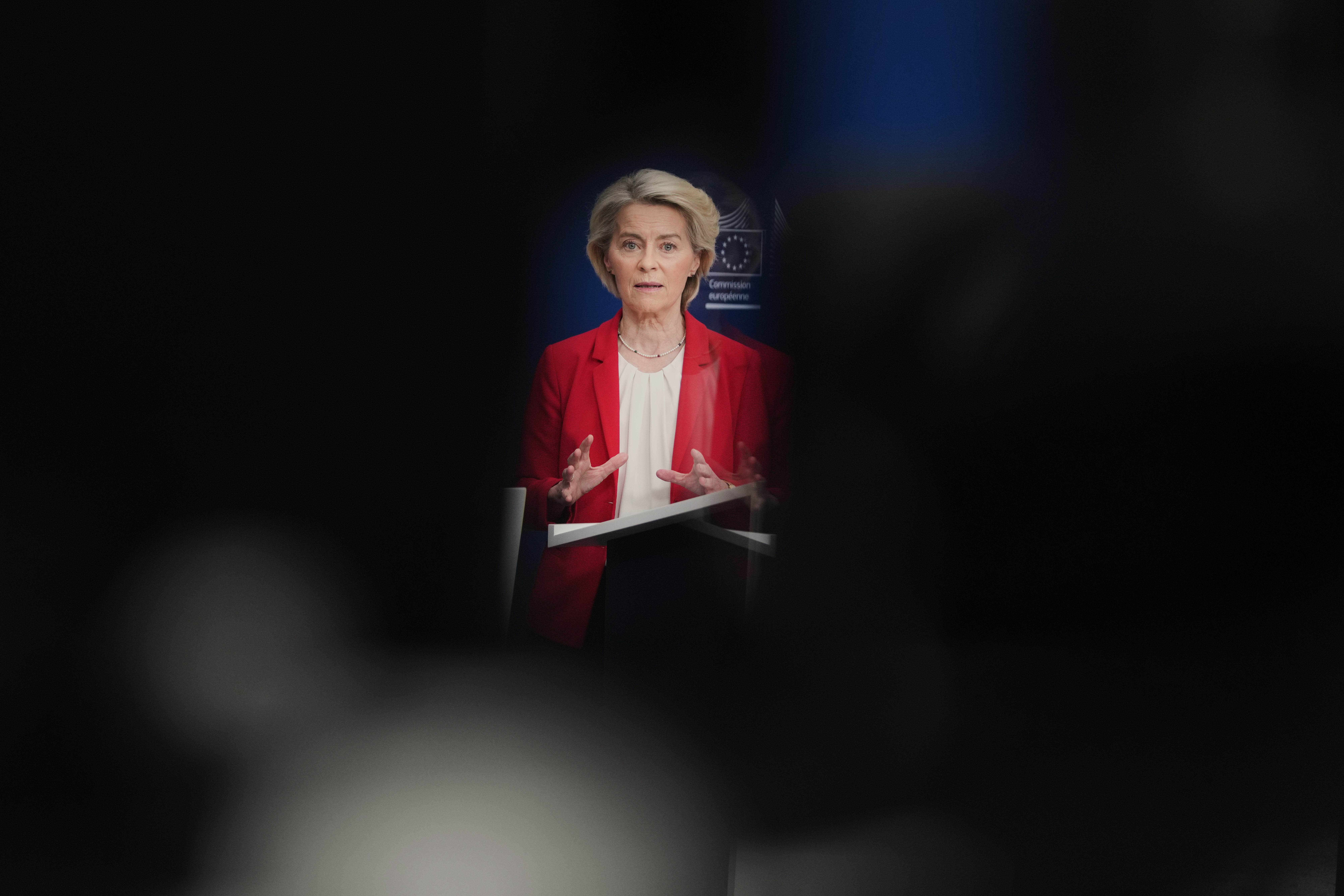19 сентября Урсула фон дер Ляйен объявила о завершении работы над 19-м пакетом санкций против России, который, вероятно, будет принят в ближайшее время (при условии, что Брюссель вновь предоставит финансовые стимулы Будапешту для преодоления возможного вето). 23 сентября Дональд Трамп на Генеральной Ассамблее ООН сообщил, что введет против России «очень серьезный пакет санкций» — правда, в случае, если ЕС к тому времени полностью прекратит закупки российских энергоносителей. Оба эти события были практически проигнорированы российским фондовым рынком — в отличие от, например, сенсационного, но пустого размышления того же Трампа о том, что Украина может не только отвоевать утраченные территории, но даже «не остановиться на этом».
Почему санкционные меры даются Западу все с большим трудом и все меньше влияют на политику Владимира Путина?
Ключевым препятствием для развития системы санкций против России является их высокая цена для Запада. На начальном этапе полномасштабной войны России против Украины в 2022 году западные страны действовали решительно, мало заботясь о финансовых последствиях. Например, запрет авиасообщения с Россией и ответное закрытие российского неба для европейских авиакомпаний стали мощным с психологической точки зрения шагом, хотя он и вызвал убытки для европейских перевозчиков и снизил их конкурентоспособность. Кроме того, санкции рассматривались не только как инструмент поддержки Украины, но и как мера обеспечения безопасности самой Европы. Эмбарго на российские уголь и нефть, а также последующее сокращение импорта газа привели к серьезным издержкам, но позволили Европе почти полностью отказаться от закупок критически важных ресурсов у потенциального врага.
Однако «рутинизация» войны и санкционной политики предопределила куда более осторожное отношение к новым ограничениям: европейские компании не стремятся уходить с российского рынка, а санкции против отдельных российских фирм или десятков судов созданного Кремлем «теневого флота» демонстрируют низкую эффективность
В середине 2025 года события, казалось бы, стали обретать новую динамику: Трамп предложил ввести пошлины в отношении покупателей российской нефти, чтобы ограничить ее экспорт (собственно, инициатива исходила от ряда американских сенаторов, президент ее упростил и выдал за свою). Такая мера, при всей ее опасности для российской стороны, могла обойтись США в десятки миллиардов долларов за счет снижения оборота торговли с десятками стран, так что европейцы ее никогда не рассматривали всерьез. Администрация Трампа опробовала концепцию вторичных санкций на Индии, но спустя всего несколько недель с начала их действия начала искать возможности возобновить с Нью-Дели торговые переговоры.
Совместное давление США, ЕС и Великобритании на Китай, Индию и Турцию могло бы удвоить стоимость российской нефти для этих стран, увеличив стоимость импорта их товаров в западные юрисдикции всего на 10−12%. Однако такая мера не была реализована и, вероятно, не будет. Не менее иллюзорны идеи о перекрытии проливов или морской блокаде российского экспорта. Российскую нефть на мировом рынке заменить нечем, и подобная блокада привела бы к росту цен до $ 110−120 за баррель, что неприемлемо для большинства стран.
Иначе говоря, первая проблема состоит в том, что санкции, наносящие ущерб российской экономике, одновременно причиняют Западу не меньший в абсолютном выражении ущерб. Можно, конечно, утешать себя тем, что российская экономика, будучи значительно меньше, либо вот-вот «будет разорвана в клочья», либо уже выглядит «бумажным тигром», но жертвовать собственными финансовыми интересами никто не готов. Именно поэтому мы видели, как Мальта и Кипр не раз блокировали установление «ценового потолка» на российскую нефть. К концу четвертого года войны на Западе поняли: если приходится платить за войну, начатую «этими русскими», давайте хотя бы не отказываться от денег, которые можно на них заработать. Это радикально сужает возможности для санкционных мер. Назовем это финансовым ограничителем санкционной политики.
Второе препятствие — укоренившиеся на Западе представления о России как коррумпированной стране, управляемой олигархами, чьи богатства сформированы за счет разворовывания национального достояния и связей с властью. Это мнение во многом справедливо, но привело к двум ошибочным выводам. Во-первых, предполагалось, что олигархи обладают значительным влиянием на политический режим в России. Во-вторых, считалось, что все российские капиталы — «грязные», и Запад должен максимально изолировать себя от них. Такие представления стали важнейшим аргументом в пользу финансовой изоляции России и давления на представителей ее бизнеса: прекращения работы в России всех западных платежных систем, заморозки активов «олигархов» и закрытия счетов значительной части российских граждан (предложение запретить россиянам владеть в Европе недвижимостью не прошло, хотя и выдвигалось). Эта позиция с самого начала казалась ошибочной по двум причинам.
Прежде всего, Запад не учел, что сверхбогатые россияне не станут критиковать режим, оставаясь в России. Их «оппозиционность» можно было пробудить исключительно в случае переманивая их на сторону Запада (к чему были предпосылки, так как значительная часть относительно независимого от Кремля бизнеса многие годы занималась легализацией своих капиталов за рубежом). Готовность поддержать тех, кто осудил бы войну и режим, могла создать раскол в рядах российского «олигархата», но западные политики решили пойти противоположным путем, санкциями загнав бизнес обратно в Россию «в объятия Путина».
То же самое было сделано с обычными гражданами. Введенные ограничения лишили россиян возможности тратить деньги за границей или переводить их в западные юрисдикции. Это привело к накоплению капитала внутри России, создав дополнительные ресурсы для финансирования войны и снизив мотивацию граждан к сопротивлению режиму, так как возникающие риски не уравновешивались возможностью отъезда на «запасные аэродромы». Сейчас кажется очевидным, что данная логика была ошибочной. Более правильным было бы максимально «открыть все краны», вывести из России как можно больше денег и человеческого капитала, а также создать раскол среди элиты и стимулировать «дезертирство» ранее верных режиму бизнесменов и чиновников. Однако по идеологическим причинам признать ошибку и сменить курс сегодня уже невозможно, тем более что и предприниматели, вернувшиеся в Россию после санкций и ареста активов, чувствуют себя обманутыми и никакие перемены не заставят их пересмотреть свое отношение к Западу. Этот идеологический ограничитель блокирует поиск более гибких форм санкционной политики, которые могли бы придать борьбе с путинским режимом новое измерение.
Оба отмеченных обстоятельства создают узкий коридор возможностей — вероятно, даже туннель, из которого нет выхода. Варианты, которые могут вызвать тяжелые последствия для российской экономики, слишком затратны для Запада. В то же время варианты, которые могли бы принести Западу явные выгоды, неприемлемы для него по идеологическим соображениям. Поэтому в дальнейшем все будет по-прежнему ограничиваться точечными мерами: ограничениями для судов теневого флота (при одновременном предоставлении разрешений на коммерческую деятельность в ЕС крупнейшим бенефициарам покупки дешевой нефти у России — например, Мукешу Амбани), запретом на операции с очередными российскими банками или криптобиржами, ну и добавлением новых физических лиц в санкционные списки.
Дополнительную проблему создает тот факт, что по общему мнению санкции не достигли результата, на который надеялись их инициаторы. Хотя некоторые меры чувствительны для российской экономики, их общий эффект оказался ниже ожиданий, которые изначально были завышены сторонниками санкционной политики. Это усиливает сомнения в оправданности уже понесенных и будущих издержек. Совершенно непонятной остается, например, и логика введения «ценового потолка» на российскую нефть для третьих стран при эмбарго на нее со стороны США, Великобритании и значительной части стран ЕС: эти две меры в совокупности обеспечивают для «третьего мира» возможность приобретать российское топливо со скидками и извлекать конкурентные преимущества при производстве промышленных товаров, которые затем экспортируются в развитые страны. Это далеко не единственное «странное» последствие санкций. Российская экономика в последнее время замедляется, что может порождать новые надежды, но если в 2026 году в ней не случится серьезного кризиса, а способность Кремля финансировать военные расходы не будет подорвана, санкционная политика как инструмент «принуждения к миру» окажется полностью дискредитированной.
Западным странам (а точнее — европейским политикам) предстоит сделать выбор. Учитывая, что США подталкивают Европу к самостоятельному финансированию обороны Украины, в столицах Старого Света могут либо предпринять уже последнюю попытку сокрушить российскую экономику, присоединившись к американским запретительным пошлинам для торгующих с Москвой стран (и распространив санкции во всем их объеме на стран-членов ЕАЭС, чтобы заставить их выйти из любых интеграционных объединений с участием России, закрыв таким образом множество экспортно-импортных лазеек), либо провести амнистию российских капиталов и стимулировать отток денег и людей из страны с тем, чтобы, с одной стороны, получить дополнительный источник поддержки Украины, и, с другой, ослабить путинский режим социально и политически, заставив его ввести собственные ограничения на передвижения людей и вывод активов, провоцируя недовольство внутри России.
Сохранение текущего вялого курса способно привести к сохранению уверенности Кремля в контроле над ситуацией как в стране, так и во внешней политике, а также к постепенному выходу США из антироссийской коалиции, участие в которой выглядит для Трампа все более бессмысленным (это не означает, что Трамп станет союзником Путина — напротив, его разочарование в российском лидере нарастает, — но США, вероятно, оставят Европу решать проблемы в одиночку).
Сделает ли Европа выбор в пользу усиления санкций? Без экстраординарных событий вероятность этого крайне мала.