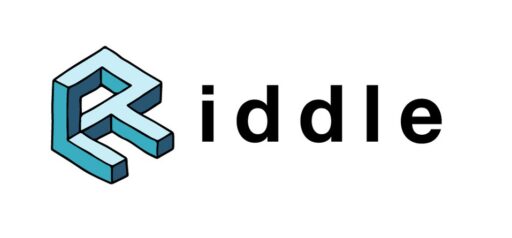Принято считать, что возвращение России на Ближний Восток произошло благодаря сирийской военной кампании. Это позволило продемонстрировать силу и навязать правила странам региона, которые из-за существующих противоречий с США и так были не прочь сотрудничать и стремились диверсифицировать контакты.
Москва действительно использовала усталость региональных и внерегиональных игроков от сирийского конфликта, в котором их интересы и позиции мешали создать сильную оппозицию Асаду. Она действовала в кризисный момент при колеблющихся оппонентах, а недостаток в экономической и военной мощи в регионе восполняла формированием цепи альянсов для продвижения идеи многополярности как предпочтительной модели миропорядка. Однако ее возвращение — как в регион Ближнего Востока, так затем и в Африку — было связано вовсе не с тем, что Россия терпеливо ждала момента, чтобы заявить о себе как об игроке, без которого, как еще в 2003 году заметил Путин, не может быть решена ни одна глобальная или региональная проблема. Вмешательство в сирийский конфликт, а затем превращение Сирии в хаб для проецирования силы в Ливию и Африку было бы невозможным без украинского кризиса, который поставил перед Кремлем целый ряд вопросов: как не допустить ассоциации страны с занявшей оборону «осажденной крепостью» и участвовать в глобальной конкуренции? Как добиться диалога «на равных» с Западом в условиях вводимых санкций и продвигать свои интересы на голосовании в ООН (54 африканских члена организации — почти треть от общего числа голосов в Генассамблее)?
Российские власти, стремясь преодолеть последствия событий в Крыму и Донбассе, переориентировали усилия и наконец придали осмысленность своей ближневосточной политике: выбрали гибкую политику, где главным драйвером стал экспорт услуг в области безопасности с привлечением уже получивших боевой опыт в Украине наемнических групп. Этот подход понятен/важен авторитарным лидерам для стабилизации своего положения и не привязан к правам человека и экономической либерализации. Однако насколько такой акцент является стимулирующим, настолько же он ограничен по времени воздействия, а потому российское руководство теперь находится у него в заложниках, пока не придумает, как можно получать дивиденды и дальше закрепляться в регионе, но уже без вклинивания в тот или иной кризис.
После того, как Россия начала «возвращаться на Ближний Восток», где ей пришлось иметь дело с многочисленными негосударственными и квазигосударственными структурами, Москва была вынуждена прибегнуть к формату работы «параллельной дипломатии» из-за неспособности официальных ведомств, на которые возложено ведение внешнеполитической деятельности, эффективно решать поставленные перед ними задачи. Поэтому к урегулированию привлекли мусульманскую команду Рамзана Кадырова и связанных с ним сил, а к боевым действиям — наемников Пригожина. Естественно, что такой подход должен курироваться не МИД, а спецслужбами в формате спецопераций.
Не секрет, что в действиях РФ даже на нефтегазовом рынке, в частности в проектах с Турцией, Иракским Курдистаном и Ливаном, всегда больше политики, чем экономической выгоды. Но представления о том, что стратегически российская позиция всегда выверена и точна — не более чем миф, настойчиво взращиваемый пропагандой. В условиях отсутствия сменяемости власти Кремль не несет ответственности за свои решения в следующем политическом избирательном цикле. Поэтому он может себе позволить делегировать полномочия воевать за рубежом наемническим структурам, а делать бизнес — экономическим фирмам с непрозрачными схемами получения выгоды и, соответственно, серой схемой без выплат налогов
Исламское измерение
Нынешнюю ближневосточная политику России необходимо рассматривать через призму современного отношения Москвы к исламу и исламскому миру в целом. А здесь все та же проблема: периоды активизации Кремля на этом направлении связаны с конфликтами и задачей сглаживания острых углов с ведущими исламскими государствами.
Так, первый период сближения России с исламским миром — время второй чеченской кампании. Именно к этому периоду относится выступление Владимира Путина на саммите Организации исламского сотрудничества и получение Россией статуса наблюдателя в этой структуре. Тогда же состоялся первый визит президента РФ в Саудовскую Аравию. Тем не менее, Москва не смогла закрепить сотрудничество с исламским миром и придать ему доверительный характер.
Вторую попытку сближения России с исламским миром мы наблюдаем сейчас. Она стала итогом противостояния с действующими против Асада силами, многие из которых придерживались исламских установок. В данном случае можно говорить об определенной институционализации этого возвращения России на Ближний Восток. В частности, оно уже позволило России запустить формат переговоров в Астане с Ираном и Турцией и вывести на новый этап взаимодействия свои отношения с Саудовской Аравией, Египтом и ОАЭ, которые заинтересованы в сдерживании Турции в Сирии и Ливии.
Чеченский синдром
Несмотря на то, что чеченская кампания была триггером развития связей Москвы с государствами Ближнего Востока, в то же время «чеченский синдром» по-прежнему довлеет над отношениями Москвы со многими ближневосточными государственными и негосударственными акторами.
Поэтому Москва по-прежнему смотрит на различные исламские силы, которые обычно называют «исламистскими», через эту призму: в них она видит потенциальных «спонсоров» внутреннего мятежа в РФ, в который могут быть вовлечены российские мусульмане.
Однако подход мог бы быть совсем иным, если бы Москва отошла от укоренившейся в российской политической системе исламофобии, вызванной негативным опытом отношения с исламским миром. И эту линию, несмотря на официальную позицию, которая отрицает подобный подход, далеко не всегда удается скрыть. Временами она проявляется и в риторике Кремля.
Конечно, Москва продемонстрировала готовность к определенному прагматизму. Это касается ее связей и контактов с Каиром в период нахождения там у власти «Партии свободы и справедливости» и администрации Мурси, а также с суданским экс-президентом аль-Баширом, напрямую связанным с суданскими исламистами и палестинским движением ХАМАС, чьи представители посещают Москву с 2006 года. Приглашение в Москву представителей ХАМАС в 2006 году было закономерно воспринято на Западе как начало возвращения России в большую политику. При этом активные на тот момент чеченские боевики выразили недовольство тем, что «моджахеды Палестины, братья чеченцев, решили подать руку Путину». В реальности Кремль тогда никакую «многоходовку» не реализовывал: Владимир Путин делал то, что продолжает делать до сих пор, — играл на противоречиях и демонстрировал свою независимость перед партнерами по «ближневосточному квартету»: ЕС, ООН и США (Путин назвал победу ХАМАС на выборах «сильным ударом» по миротворческим усилиям Вашингтона на Ближнем Востоке и спустя девять дней пригласил его представителей в Москву). С тех пор российские дипломаты вынуждены лавировать в каждом интервью, чтобы объяснить, как ХАМАС, вышедший из «Братьев-мусульман», запрещенных в России в 2003 году, через несколько лет смог приехать в российскую столицу, и почему РФ так не признала ХАМАС террористами (официально — потому что движение не угрожает россиянам).
Несмотря на это, при выборе между политиками исламской направленности или же теми деятелями, которым достаточно продекларировать свою светскость и заявить о борьбе с любыми проявлениями исламизма, в выигрыше оказываются последние. Стоит подобным деятелям заявить о такой позиции и вектор Москвы меняется, зачастую реактивно и без четко оформленной позиции.
Подобный подход свойственен не только России, но в определенной степени и Франции. Это активно использовал ливийский военачальник Хафтар, продвигая антиисламистскую повестку и говоря то, что хотели от него услышать в Москве и Париже. При этом его антиисламистские лозунги были обращены в основном вовне, а для внутреннего пользования он использовал вполне фундаменталистский исламский подход, получая наставления от радикальных салафитских проповедников и имея в своей армии салафитские формирования. Тем не менее, самого фактора публичного признания собственной светскости и декларативных призывов борьбы с исламизмом может оказаться достаточно, чтобы стать фаворитом Кремля.
В итоге Москва противопоставляет себе широкий разрез политических сил Ближнего Востока, выступающих с позиций умеренного ислама. Российской власти иногда приходится иметь с ними дело и вести переговоры, но при этом она продолжает держать «камень за пазухой» и проводить дискредитирующую их кампанию в российских СМИ, которые зачастую путаются, как освещать раунд переговоров российских чиновников с теми ближневосточными политиками, которых еще вчера называли нерукопожатными. В то же время эти силы могли быть заинтересованы в долговременном сотрудничестве (например, партия «Йа Биляди» и такие деятели, как Нури Абусамейн, Салахадин аль-Намруш или Усама аль-Джувейли в Ливии, партия «Аль-Ислах» в Йемене, Муктада ас-Садр и его сторонники в Ираке, «Ан-Нахда» в Тунисе и др.), если бы российская сторона в определенных условиях не боялась делать на них ставку и выстраивала действительно эффективный, а не эффектный вектор ближневосточной политики.
Баланс
У России давно была возможность стать одним из центров исламского мира, если бы элита и пропаганда не делали чрезмерного акцента на православном характере российского государства и «государствообразующем народе». Хотя мусульмане в России и являются меньшинством, но все-таки слишком значительным, чтобы его игнорировать. В этом смысле эмоциональные публикации и заявления российских политиков часто противопоставляют мусульманские народы РФ «титульной нации», что не только не корректно в такой многоконфессиональной стране, но и опасно. И это при том, что российскую власть в поиске скреп на идеологическом поприще в последние десятилетия штормит — от противоречивых идей философов (Ильина, Соловьева, Бердяева), которые штудировались даже губернаторами, до ставшей после Донбасса маргинальной идеи продвижения «русского мира». Но даже акцент на православии (при реальной заинтересованности в развитии связей и кропотливой работе) вряд ли помешал бы продвигать идеологию «российского политического ислама», который бы мог обзавестись многочисленными последователями на Ближнем Востоке и даже иметь собственные партии и движения, действующие в интересах РФ в исламском секторе этого региона.
Это опирается как на имеющиеся у России исламские реформаторские традиции (джадидизм — российский вариант обновленческого движения в исламе), так и на давнюю историю взаимоотношений России и исламского мира, ведь многие мусульмане все равно воспринимали ее в качестве стороны, способной выступать от имени мусульман. Достаточно вспомнить неоднократные обращения в конце 19 века Султаната Ачех на Суматре к Российской Империи с просьбами принять в свое подданство, что говорит о том, что многие мусульмане рассматривали «русского падишаха» и как правителя мусульман. Санкт-Петербург тогда именно так и пытался себя позиционировать перед исламским миром, хотя эта работа не обрела каких-либо рельефных очертаний.
Сейчас же у Москвы вполне достаточно ресурсов, в том числе и интеллектуальных, чтобы подобную идеологию сформулировать и озвучить. И это может серьезно расширить фронт действий Москвы на Ближнем Востоке вместо того, чтобы постоянно заявлять о себе в качестве исключительно защитника светских авторитарных режимов, чье политическое будущее в общем-то предопределено. Альтернатива им — здравые политические силы, придерживающиеся идеологии умеренного политического ислама и далекие от радикализма. Многие из них открыто заявляют о готовности развивать и укреплять связи с Россией и видят в ней противовес США и их союзникам в регионе. Поэтому не в интересах Москвы отталкивать подобные силы и следовать стереотипам, не отвечающим вызовам эпохи.
Российское вмешательство в сирийский конфликт, несмотря на очевидные геополитические выгоды, не принесло Москве значительных дивидендов. Чрезмерное увлечение поддержкой сирийского режима и фактически оформление военного альянса с шиитским Ираном, также предпочитающим ходить на грани войны и мира, сузили для России коридор маневров на Ближнем Востоке. Российская сторона из-за своего стереотипного мышления не смогла нарисовать в отношениях с Асадом ту черту, через которую не следовало переступать.
В 2015 году у Москвы была возможность наметить дистанцию с Дамаском и не «смешиваться» с сирийским режимом. Можно было сосредоточиться на официально заявленной цели военной операции в САР — борьбе с «Исламским государством», запрещенным в РФ, и сдерживании наступательного потенциала «Джебхат ан-Нусры» (ныне — «Хайат Тахрир аш-Шам», организация запрещена в РФ). В 2015 году сирийская оппозиция не собиралась переходить на сторону Турции и воевать за ее интересы в сирийском приграничье. Москва могла не имитировать, а действительно играть роль модератора в гражданской войне, нанося удары по реальным террористическим ячейкам и склоняя Асада к компромиссам. Асад все равно бы согласился на российское военное присутствие в таком формате.
В подобных условиях Москве, вероятно, удалось бы постепенно «приручить» сирийский режим и оторвать его от Ирана, запустить полноценный мирный процесс с привлечением в страну значительных инвестиций, которые бы смогли осваивать и российские компании, не опасаясь попасть под западные санкции. Кроме того, Россия сохранила бы позиции и доверие у всего спектра представленных на Ближнем Востоке сил. А главное — этот сценарий исключал бы возможность «заафганивания» конфликта и позволял экономить на вмешательстве в войну.
Попытка самокорректировки
В отличие от Сирии, политика Москвы на ливийском треке более тонкая — именно потому, что власть явно понимала, что оказалась чересчур ангажирована на стороне Асада в сирийском конфликте. В бывшей Джамахирии другие правила игры и расклады сил, и Россия все-таки смогла, втягиваясь и в этот конфликт, сохранить полноценные отношения со всеми сторонами. Отказ России предоставить прямую военную помощь Хафтару и использование для этого частных военных подрядчиков можно считать положительным опытом, оправдавшим себя. Москва смогла таким образом закрепиться в Ливии и имеет дальнейшие возможности для укоренения в этой стране через заключение соглашений с новыми властями о создании полноценных военных баз на ливийской территории.
Конечно, и здесь не обошлось без прежних ошибок. Решение изначально сделать акцент на Хафтаре было поспешным, но российской стороне удалось вовремя найти противовес в виде новых «фаворитов», обладающих куда большей легитимностью. При этом были варианты развертывания российских ЧВК в Ливии без их вовлечения в военные операции: они могли использоваться для обеспечения нефтедобычи, охраны нефте- и газопроводов и действовать в интересах обеих сторон конфликта в сфере борьбы с терроризмом (реальным, а не с тем, о котором рассказывал Хафтар), например, работая в координации с Национальной нефтяной корпорацией. Более того, тут Москва изначально имела возможности для диалога с США, поскольку Вашингтон в ходе второй гражданской войны в Ливии (после 2014 года) напрямую поддерживал как силы Хафтара, так и противостоящую им коалицию «Рассвет Ливии» и командование «Бунияс аль-Марсус» в их антитеррористической деятельности.
В процессе йеменского урегулирования Москва пока не смогла раскрыть свой потенциал, что свидетельствует о сложностях для российской дипломатии играть роль «чистого посредника», без участия в конфликте на стороне одного из враждующих лагерей. Тем не менее у Москвы остаются возможности начать играть более активную роль в йеменском мирном процессе, используя свои связи с противоборствующими сторонами. Например, российская сторона могла бы постараться начать более тесно взаимодействовать с йеменской партией «Аль-Ислах», на которую во многом и вынужден опираться президент Мансур Хади. Организация переговоров между «Аль-Ислах» и хуситами из «Ансар Аллах» на российской площадке могла бы ускорить поиск компромиссного решения и позволить Москве получить определенные гарантии учета ее интересов в Йемене.
Единственная рекомендация
Россия как правопреемница СССР имеет уникальную возможность: Москва способна одновременно и вполне официально вести диалог с враждующими сторонами. Сегодня с Израилем и Ираном, завтра — с США и «Хезболлой», послезавтра — с Турцией и курдским «Демократическим союзом». В то же время у Москвы нет советской экономической мощи, чтобы иметь плеяду прикормленных и сражающихся за некие идеалы движений, и чтобы навязывать опосредованный диалог сторонам на своих условиях и выдерживать конкуренцию. Поэтому Кремль вынужден втягиваться в ближневосточные военные конфликты, теряя статус независимого переговорщика. Опыт безуспешного поиска союзных режимов и постоянные попытки менторства — главное препятствие, которое мешает Москве развивать отношения со странами Ближнего Востока и Северной Африки в пресловутом многополярном мире. А курс на милитаризацию внешней политики и поиск внешнего врага для консервации нынешней системы исключают участие российских компаний в «проектах без политики»: российские дипломаты хорошо знают, что множество экономических проектов РФ в странах Ближнего Востока и Северной Африки сорвались не из-за вставляющего палки в колеса Вашингтона, а по вине именно российских политиков и бизнесменов. Для Москвы важна ковровая дорожка и дифирамбы и только потом то, что принято называть Realpolitik.
Москве пора отказаться от советской парадигмы ближневосточной политики, где центральное место было отведено блоковому противостоянию. Также следует пересмотреть официальную ставку на светскость как основной индикатор «вменяемости» ближневосточных политических сил и расширить охват региональных контактов, не прибегая к бряцанию оружием. Однако с учетом курса на подавление инакомыслия и свободы распространения информации внутри России есть большие сомнения, что Москва готова к перебалансировке.
* Данная статья является частью цикла «Реформы», подготовленного изданием Riddle совместно с проектом «Рефорум»