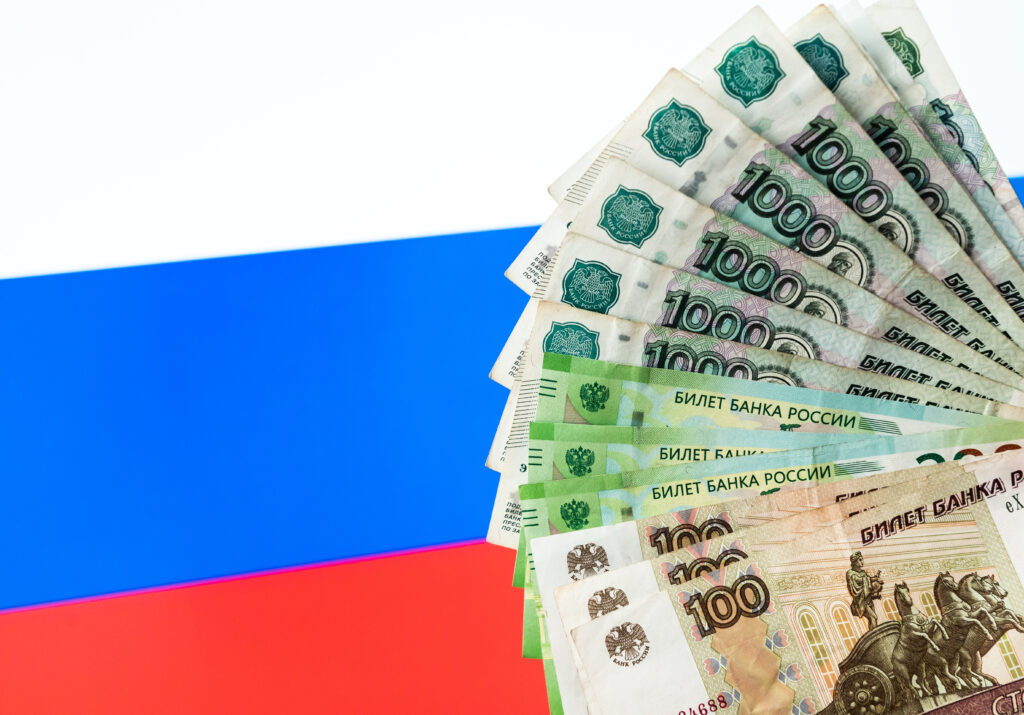«Есть, вы знаете, современная так называемая либеральная идея. Она, по-моему, просто себя изжила окончательно», — эти слова Владимира Путина из интервью для The Financial Times, пожалуй, как нельзя лучше описывают главный политический тренд года. Этот тренд — легитимация гораздо более репрессивной политики государства и постепенное оформление путинизма как альтернативы западной модели. С одной стороны, власть становится честнее, делая все меньше попыток (или уже не делая их вовсе) казаться приличной. Однако, с другой стороны, она практически утрачивает тормоза, превращая силовой ресурс в универсальный механизм разрешения конфликтов и разрушая институты для диалога.
События уходящего года — лучший тому пример: дело Майкла Калви, новый набор ужесточающих контроль законов, силовое подавление московских акций протеста и последовавшие за этим громкие уголовные дела против их участников, а также демонтаж Совета по правам человека (СПЧ) — последней структуры, которая, несмотря на свою беззубость, позволяла доносить до президента альтернативную точку зрения на происходящее в стране. Владимир Путин окончательно изжил либеральную идею, прежде всего, из себя. И это позволяет говорить о перерождении режима, которое будет сопровождаться не только идеологическим креном в сторону консерватизма, но и институциональной адаптацией системы — началась активная подготовка к правке Конституции.
Для Владимира Путина страх перед либерализмом — это в первую очередь страх перед диктатурой меньшинства, будь то нелегальные мигранты, внесистемная оппозиция или сексуальные меньшинства. В этом смысле он себя, безусловно считает полноценным демократом, исходя из мысли, что его поддерживает большинство населения страны. «Меньшинство должно подчиниться большинству. Вот в этом и состоит принцип демократии» — говорил Путин в мае, комментируя ситуацию вокруг протестов в Екатеринбурге против строительства церкви на месте городского сквера. Либерализм тут воспринимается как источник беспорядка, фактор, содействующий ослаблению государства, но что еще более важно — как инструмент геополитического влияния. Либеральная идея, в понимании Путина, — это основание для идеологического доминирования Запада, рычаг его вмешательства во внутренние дела других государств. Именно поэтому лейбл «либеральный» окончательно стал практически синонимом всего прозападного, ангажированного, антирусского и антигосударственного. Подобное отношение к либерализму не является для Путина новым, однако в текущей ситуации он, кажется, позволил себе в этом окончательно признаться, что означает конец любых усилий сохранять демократические приличия или считаться с либерально мыслящим, более модернистки настроенным сообществом.
На практике это имеет три главных последствия. Во-первых, окончательное выдавливание всего «либерально» мыслящего из власти. Это касается и системных либералов, которые еще пытались к президентской выборной кампании начала 2018 года как-то поучаствовать в формировании будущего курса, но оказались в итоге невостребованными, и «придворных» правозащитников. Алексей Кудрин, став главой Счетной Палаты, оказался зажат в узком коридоре политики по контролю за госрасходами. Герман Греф, глава Сбербанка, окончательно технократизировался, вероятно, рассчитывая, что новые суперсовременные технологии управления и искусственный интеллект станут главными драйверами для развития более современного государства, скатывающегося пока в дремучий консерватизм.
Символичным стал демонтаж СПЧ в ноябре этого года — психологический комфорт президента, раздраженно реагирующего на критику власти, оказывается важнее институционального выстраивания диалога с разными частями общества. Это тоже звено одной цепи — режим перестает стесняться своего откровенного пренебрежения несогласными. Главным «правозащитным» органом становится Генпрокуратура, а фокус смещается с политических прав и свобод на социальные проблемы (это хорошо видно на примере последнего заседания СПЧ, где председательствовал Путин).
Во-вторых, главным инструментом разрешения конфликтов становится силовой ресурс. Это касается корпоративных конфликтов, например, дела Baring Vostok, в котором режим перешел символическую красную линию, начав уголовно преследовать успешных иностранных инвесторов, или ситуации вокруг Nginx, где приближенный к власти частный бизнес не побрезговал силовиками для сведения счетов со своими бывшими сотрудниками. В этом смысле важно подчеркнуть, что силовики не являются исключительным ресурсом государства, они, как и в 90-е годы, с легкостью вовлекаются в корпоративные дела на той или другой стороне конфликта. Разница заключается лишь в том, что сейчас это является привилегией околовластного бизнеса, встроенного в выполнение политически значимых задач государства.
Силовой ресурс теперь более активно и менее разборчиво применяется и для решения политических конфликтов. Протесты против отказа московских властей регистрировать несистемных кандидатов на выборах в Мосгордуму были подавлены максимально жестко, а их участники подверглись уголовному преследованию. Силовики стали гипертрофированным механизмом регулирования ситуаций в условиях, когда другие органы власти самоустраняются или предпочитают подменять внутреннюю политику администрированием. Никакие серьезные политические вызовы не признаются проблемными для текущей повестки — выборы проводят по плебисцитному сценарию с минимальной конкуренцией, партию власти консервируют, системную оппозицию ограничивают, внесистемную подавляют. Формирование политического поля происходит путем подготовки кадрового ресурса из сотен молодых технократов, без политических предпочтений и опыта, но готовых стать механической частью единой исполнительной вертикали от федерального центра до столичных муниципалитетов.
Все это во многом является следствием того, что внешняя политика вот уже несколько лет доминирует в повестке дня президента, что ведет к его операционному сближению с теми, кто включен в геополитическую проблематику. Внутренняя политика в такой ситуации превращается в вопрос национальной безопасности, а все что бросает вызов власти — в инструмент дестабилизации ситуации в стране и антигосударственную деятельность. Режим все меньше готов к диалогу, утрачивая способность к гибкости и обратной связи.
Наконец, в-третьих, такое идеологическое перерождение режима не может не вести к институциональным переменам. Нынешняя форма политического управления впервые с 1993 года поставлена под вопрос — на итоговой пресс-конференции Владимир Путин дал старт большой конституционной реформе, которая должна будет развернуться в 2020 году — именно в это время Кремлю придется определиться с рамками функционирования системы в период транзита власти. Страх перед переменами отступил окончательно. Невозможность для Путина остаться на посту президента после 2024 года и одновременно критичная зависимость системы от его доминирующего положения заставляют искать новые формы управления, где Путину придется в том или ином виде остаться — как главе государства или как участнику нового тандема.
Одной из причин новой трансформации режима стало не только его дистанцирование от либерализма как такового, но и постепенная культивация путинизма как новой идеологической альтернативы, которая предлагается уже не только внутри страны, но и на экспорт. Путинизм обретает свое вполне конкурентное содержание — это сильное корпоративное государство, культ суверенитета, умеренный популизм на базе сильной социальной и патриотической риторики, пресловутые традиционные ценности — семья, порядок, духовность — все то, что делает морально неприличным быть в меньшинстве или вне сложившихся устоев. Такое оформление путинизма как альтернативы западной модели является следствием определенной эйфории от политической успешности путинской модели: пока на Западе поднимаются протестные волны против истеблишмента, глобализма, традиционной политики, в России многие функционеры испытывают чувство превосходства и исторической правоты из-за столь длительного периода стабильности и все еще высоких рейтингов. Это ведет к тому, что руководство страны в целом перестает стесняться — расширяются рамки дозволенного.
Российская политическая система созрела для больших перемен. 2020 год может в этом плане стать революционным. Существенное обновление ждет губернаторский корпус, оно может также затронуть силовиков и федеральное правительство, системные партии, включая и партию власти, а также институциональное оформление — Конституцию и выборное законодательство. При это не стоит ожидать никаких послаблений или тем более потепления — режим готовится к самовоспроизводству, прибегая все чаще к административным и репрессивным механизмам, а не политическим компромиссам или диалогу. Однако и более сплоченным он тоже не станет — консервативный тренд, сопряженный с более выраженным доминированием силовиков, провоцирует внутриэлитное раздражение, дискомфорт и даже страх перед необратимостью таких перемен. Система сама ставит себя в положение, рождающее больше конфликтов и сужающее поле для маневра и возможности для адаптации. А значит и цена поддержания «порядка» станет гораздо более высокой, требуя больше ресурсов и жесткости. В погоне за стабильностью, кажется, именно ей и придется пожертвовать — страна вступает в период значимых перемен.