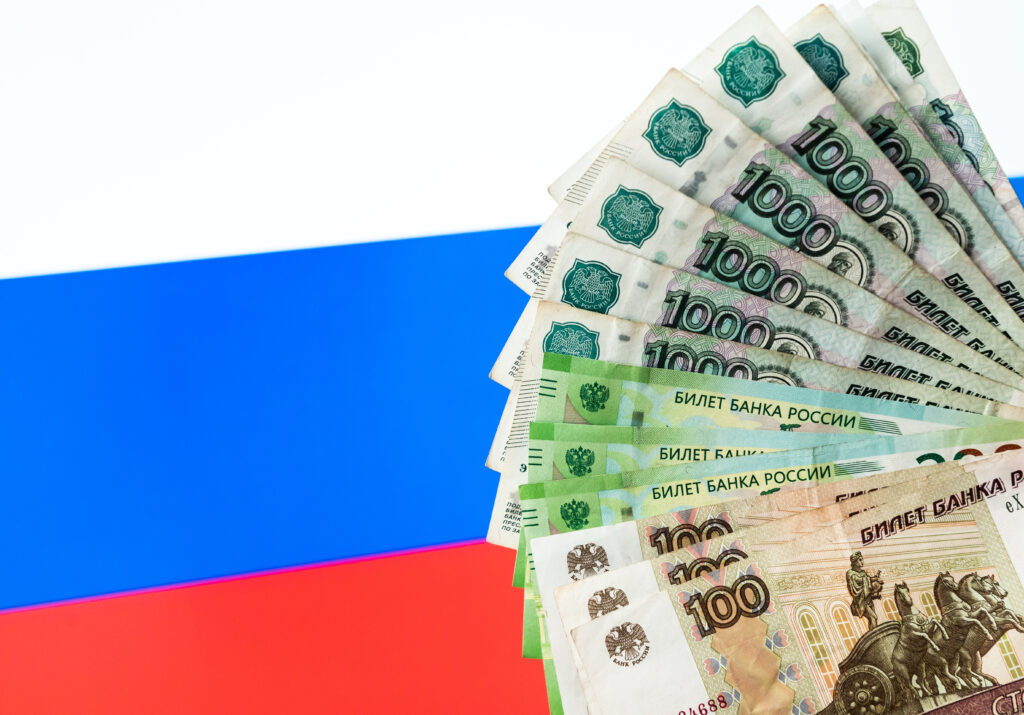Недавно Андрей Перцев в традиционном «обзоре событий недели» на Riddle Russia проанализировал статью кремлевского функционера Александра Харичева, который в очередной раз пустился в рассуждения о «Цивилизации „Россия“». Хотя она не вызвала такого резонанса, как интервью Владислава Суркова для l’Express, ее тезисы привлекли внимание некоторых оппозиционных изданий. Большинство критиков увидели в тексте жонглирование вымышленными сущностями, отсылки к сталинизму и монархическим идеям XIX века. Однако в нем также можно увидеть две центральные идеи и массу всего того, что их дополняет.
Первая идея — интемпоральность и бессубъектность
Текст Харичева, несмотря на эпиграф из Путина, отличается от типичных нарративов Кремля. Он насыщен словом «всегда» («Россия всегда существовала как особая цивилизация», «ведущая роль в устроении общества всегда принадлежала государству», «мы всегда ищем опору в правде», «Россия на протяжении всей своей истории сталкивалась…», «мы всегда продолжаем искать опору в правде»
Таким образом, пространства и то, что они скрывают, абсолютизируются по отношению к людям (хотя тот же Путин куда чаще говорит о народах — или о едином, по сути, народе, — чем о территориях). Это подчеркивает «естественность» российского империума: расширение описывается не как колонизация, а исключительно в категориях «освоения территорий» или «необходимости контролировать обширные пространства». В итоге «российская цивилизация» оказывается беспредельной абстракцией, но такое ее представление имеет и свою цель: задача государства состоит в том, чтобы быть по возможности неизменным и в том, чтобы контролировать территорию и природные богатства. Люди в такой трактовке становятся совершенно вторичной субстанцией.
Вторая идея — «служение»
Многие критики отметили концепт «служения», которое Харичев трактует не как обязанность, а как «внутреннюю готовность выполнять обязательства перед семьей, обществом и страной». Сама эта фраза кажется бессмысленной, поскольку в ней обязательства противопоставлены обязанностям, но надо учитывать, что для автора «дух закона важнее его буквы», поэтому речь идет о том, что люди должны жертвовать всем ради неписанных правил, которые и называются «российским цивилизационным кодом». «Мы легче других, — пишет автор, — отдаем свои жизни за высокие цели, потому что убеждены, что истинное стремление к высокому идеалу достигается не через комфорт, а через жертвенную преданность». Это интересный концепт — но его ценность (как и ценность многих других интеллектуальных исканий в современной России) заметно умаляется тем, что он выглядит нещадным плагиатом.
Ровно сто лет назад вышла книга, содержавшая схожие проникновенные строки. «И вот эта готовность к личному самопожертвованию, готовность жертвовать своим трудом, а если нужно, то и жизнью для других более всего развита у арийцев. Арийцы велики не своими духовными качествами как таковыми, а лишь своей готовностью отдать эти способности на службу обществу. Инстинкт самосохранения принял у арийцев самую благородную форму, ибо ариец подчиняет собственное „я“ жизни общества, а когда пробьет час, ариец охотно приносит себя в жертву общим интересам», писал столетием ранее в своем манифесте «Моя борьба» Адольф Гитлер.
На этом фоне крайне сложно согласиться с теми, кто считает, что от сочинений Харичева можно протянуть логические ниточки к КПСС, сталинизму или даже к Сергею Уварову. В графомании нынешних идеологов Кремля нет ничего универсального, что было присуще советским теориям, и ничего народного, о чем вещали историки имперской России. Это не слишком оригинальная реинкарнация фашизма, который сегодня стремятся — вслед за Иваном Ильиным, столь любимым Путиным, — сделать официальной идеологией страны.
Идеология а-ля Путин
Путинская идеология времен столетнего юбилея «Майн Кампф» — крайне интересный феномен. Она формально не отрицает многонационального и многообразного характера страны, но, во-первых, считает, что эта страна «изначально возникла как многонациональная», и, во-вторых, важна не тем, что позволяет людям жить в справедливом общежитии, а «создает условия для развития и процветания государства». Человек в этой конструкции явно уходит на второй план, его права и нужды вообще не рассматриваются как нечто значимое и заслуживающее внимания. Харичев так проникается героикой и метафизикой фашизма, что невольно рождает максиму: «Мы понимаем свободу как волю», отсылающую к слоганам пропагандистского фильма «Триумф воли» о съезде НСДАП 1934 года, снятого Лени Рифеншталь. Идея «цивилизационного кода» (в формулировке патриарха Кирилла — «русского генетического кода) тоже, вероятно, заимствована из фашистского идейного арсенала.
Крайне похожим с методологической точки зрения образом выстроена и воображаемая альтернатива «российскому идеалу». В книге Гитлера арийцы противопоставлялись иудеям, а у Харичева элементом дихотомии выступает либеральный Запад. При этом сама суть антагонизма запечатлена в тех же тонах. «Трансгуманистические» и «постгуманистические» идеологии, «мультикультурализм», «ценностный разлад» — все это суть формы оружия, которым Запад стремится подорвать «ценностный суверенитет» России (хотя в тексте проскальзывают и тезисы, позволяющие усомниться в том, стоит ли вообще уделять внимание потугам врагов — ведь автор прямо утверждает, что «ценности, (…) которые формируют основу жизни российской цивилизации, (…) устойчивы и не поддаются влиянию извне»).
Между тем пришла пора перейти к самому важному моменту, который указывает на очень слабый пункт путинской идеологии. В статье Харичева поднят «важнейший вопрос: каким должно быть новое поколение граждан, способных не только сохранить уникальное наследие Родины, но и дать ей импульс к развитию»? В фашистской идеологеме на него давался простой и понятный ответ: нужно создавать нового человека — как физиологически (на принципах евгеники, через искусственный отбор и последующее воспитание), так и нравственно (через полное изменение сознания, прививание новых привычек и новой морали). В этом отношении фашизм был (как и многие из идеологий ХХ века) концепцией перемен, требующей особого рода отречения от старого мира и создания нового. Его идеологи прекрасно понимали, что тех черт, которые они атрибутируют идеальному человеку, сегодня у людей по большей части нет. В этом отношении в обществе за последние сто лет мало что поменялось. Но путинская идеология проще: она не меняет человека, а убеждает, что он уже воплощает идеал. Именно поэтому «традиционные ценности» кажутся самым удачным идеологическим выбором: их не нужно формулировать или создавать — они есть и были всегда. Более того: если прочитать внимательно список «семи качеств» человека будущего, которым Харичев завершает свой эпохальный текст, сложно избавиться от впечатления, что читателю предлагается откровенный эрзац. Патриотизм рассматривается как «желание участвовать в делах страны»; тема служения раскрывается через «способность подняться над индивидуальными выгодами»; говорится о «приверженности» ряду принципов и «стремлению к созиданию». Автор, скорее всего, даже не замечает, что пытается определить «человека будущего» не через его действия, способности или черты, а исключительно через его самовосприятие и его гипотетические предрасположенности. Стремление к созиданию не означает даже его возможности, не говоря о результативности; желание в чем-то участвовать ничего не говорит о способности к этому действию; приверженность принципам не тождественна их каждодневной реализации. Путинская «идеология» оборачивается апологией пассивности и не-развития — и результаты этого мы прекрасно видим спустя четверть века после того, как ее главный адепт пришел к власти: страна практически остановилась в своем развитии, если не деградировала.
Фашистские истоки путинского режима казались очевидными уже более десяти лет назад, а недавно автор этой статьи попытался показать, почему они долгое время не замечались западными исследователями и политиками. Причина кроется в градуализме путинской политики: современный российский фашизм не основан ни на стихийном движении масс, ни на заранее сформулированном учении — он строился «сверху» и «из того, что было». Собственно говоря, статья Харичева и важна как раз тем, что инвентаризирует — причем через много лет после построения основ режима — тот хлам, что служит его концептуальными подпорками. Нового и оригинального в нем ничего нет, потенциала для развития режима он также не обеспечивает. И хотя путинская система смогла прожить уже вдвое дольше «Третьего Рейха», это, скорее всего, подчеркивает лишь известный из биологии факт, что проще организованные виды (в нашем случае — режимы) часто оказываются живучее, чем те, что отличаются большей внутренней сложностью.