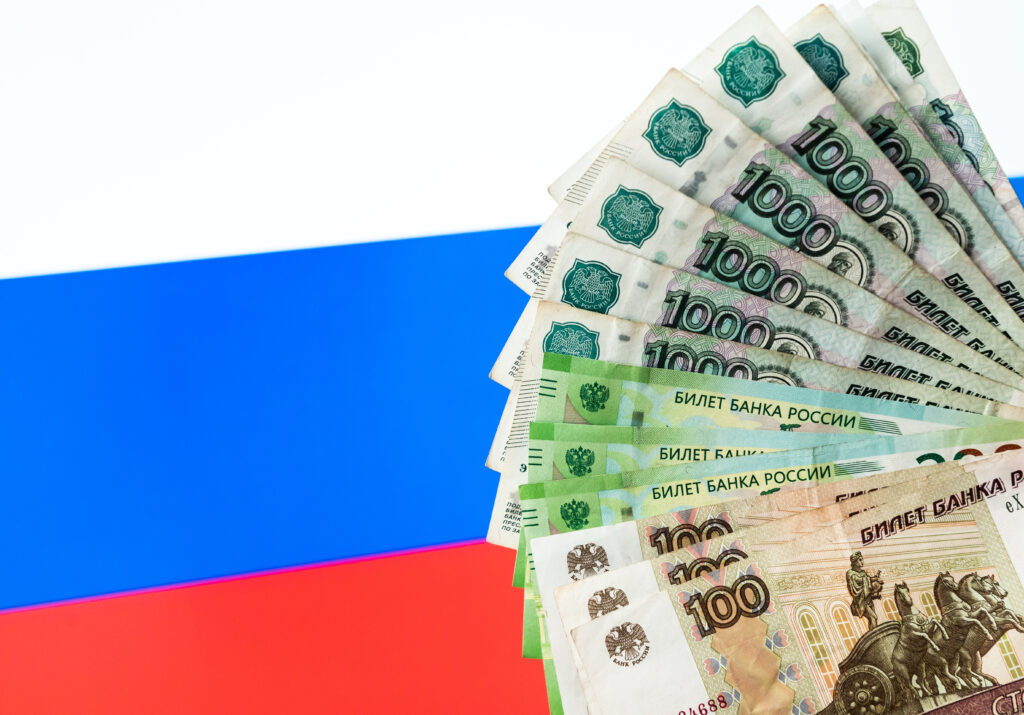Политическая жизнь в автократиях часто напоминает «кривое зеркало»: парламенты не отражают волю народа, выборы не приводят к смене власти, а партии лишены реальной конкуренции. Однако на уровне «ниже радаров» — в сфере повседневной социальной активности — сохраняется пространство для гражданских инициатив, волонтерства, благотворительности и самоорганизации. Низовая жизнь гражданского общества, существующая вне государства и бизнеса, долгое время остается вне поля зрения авторитарных режимов. Но по мере консолидации контроля над ключевыми институтами автократы обращают внимание и на этот уровень, превращая общественные организации и гражданские объединения в инструменты для покупки лояльности социальных групп, реализации политических задач с минимальными издержками и компенсации дефицита обратной связи.
В России целенаправленное кооптирование и подчинение профессионального сектора некоммерческих организаций (НКО) началось в 2012—2013 гг. Кремль использовал комплекс мер: ограничение иностранного финансирования, введение статуса «иностранных агентов» и «нежелательных организаций», а также распределение «президентских грантов» для поддержки лояльных структур. Эти шаги позволили поставить под контроль формальные НКО, но низовая гражданская активность выходит далеко за рамки профессионального сектора. Она включает повседневные формы самоорганизации: спортивные клубы, товарищества собственников жилья (ТСЖ), родительские чаты, танцевальные сообщества и другие неформальные объединения, которые способствуют накоплению социального капитала, укреплению доверия и развитию горизонтальных связей.
Классические политические теории связывают уровень доверия в обществе, плотность социального капитала и силу социальных сетей с качеством демократии и государственных услуг. Участие в общественных объединениях снижает транзакционные издержки общения: люди быстрее находят единомышленников, проверяют ценностную совместимость и налаживают коммуникацию. Кроме того, повышается плотность и скорость коммуникации, что способствует социальной мобилизации: на экологическую акцию или демонстрацию эффективнее приглашать не адресным приглашением, отправленным отдельному человеку, а через сеть общественного объединения, где собраны единомышленники, доверяющие друг другу и заинтересованные в том, чтобы поделиться важной информацией с соратниками.
Однако в автократиях, где политическая система искажена и напоминает «кривое зеркало», возникает вопрос: сохраняют ли низовые объединения потенциал для укрепления гражданского общества? Чтобы ответить на него в контексте современной России, обратимся к данным 14-й волны проекта «Хроники» — всероссийского репрезентативного опроса, проведенного в феврале 2025 года (выборка: 1600 респондентов). Среди прочего респондентов спрашивали об их участии в различных типах общественных объединений. Полученные данные свидетельствуют о том, что около 40% россиян вообще не участвуют в деятельности общественных организаций. Примерно 30% связаны с одним объединением, и почти столько же вовлечены в два и более. Для последующего анализа мы разделим респондентов на три группы:
- «Неактивные»: не участвуют ни в одной общественной организации;
- «Низкоактивные»: связаны с 1−3 объединениями;
- «Высокоактивные»: участвуют в 4 и более объединениях.
Наиболее популярны религиозные объединения — в них вовлечено 45% респондентов. За ними следуют волонтерские, жилищные, спортивные и культурно-образовательные организации (27−35% участников опроса). В деятельности оставшихся объединений принимает участие по 10−20%. Наименее популярны политические партии и женские организации.
Артефакты искривлений
Прослеживается заметная связь между уровнем вовлеченности в общественные объединения и лояльностью власти. Среди «неактивных» 66% хотели бы видеть Владимира Путина президентом на следующих выборах, среди «высокоактивных» — 77%. Поддержка войны тоже растет с увеличением общественной активности: от 51% у «неактивных» до 59% у «высокоактивных». В то же время среди «неактивных» выше доля тех, кто прямо не высказывается в поддержку «спецоперации» (не поддерживает, затруднился или отказался отвечать на вопрос): 12% против 9% среди «высокоактивных».
Более сложная связь обнаруживается в вопросе о поддержке решения Путина вывести войска из Украины и перейти к переговорам. «Низкоактивные» чаще поддерживают такое решение (42%), тогда как «неактивные» и «высокоактивные» делают это в равной степени (по 40%). Не поддерживают вывод войск 46% «неактивных» и «низкоактивных», но среди «высокоактивных» таких меньше — 43%. Вероятно, за этим скрываются артефакты политической лояльности и присоединения к большинству: вовлеченные в более широкие социальные сети выражают готовность поддержать то решение власти, которое будет необходимо поддержать. Подобные артефакты обнаруживаются и в вопросах, не связанных с прямой поддержкой режима или войны. Например, «высокоактивные» чаще оказывают помощь армии (72% против 34% «неактивных»), тогда как «неактивные» чаще помогают животным или природе (27% против 17% «высокоактивных»).
Голосование на президентских выборах также связано с широтой вовлеченности в общественные объединения. На выборах 2024 года голосовали за Путина 64% «высокоактивных» респондентов и 52% «неактивных». Среди тех, кто не пошел на выборы, больше не вовлеченных в объединения (31%), а «высокоактивных» среди абсентеистов — только 20%. Кроме того, «неактивные» чаще других голосовали за Владислава Даванкова (3% против 1% «высокоактивных»).
Нереальное положение дел
Вовлеченность в общественную жизнь коррелирует и с уровнем материального достатка. Чем выше доход, тем чаще человек оказывается вовлечен в деятельность сразу нескольких организаций. Среди респондентов с доходом выше 70 тысяч рублей на семью «высокоактивных» больше, чем среди тех, кто живет на 30 тысяч и менее. Те, кто оценивает свое финансовое положение как позволяющее «все, кроме покупки квартиры» или даже ее покупку, чаще относятся к «высокоактивной» группе. В более бедных слоях общественная активность ниже.
«Высокоактивные» чаще отмечают положительное влияние войны на их повседневную жизнь (14% против 8% «низкоактивных»). Несмотря на это, они лучше осведомлены о «реальном положении» дел: 45% «высокоактивных» (против 38% «неактивных» и 41% «низкоактивных») сообщают, что за последние 2−3 года им пришлось работать больше, а 32% сталкивались с нехваткой лекарств (среди «неактивных» и «низкоактивных» — 25% и 30% соответственно). Однако эта информированность не трансформируется в недовольство: «высокоактивные» реже критикуют режим или войну, адаптируясь к условиям или воспринимая их как норму.
И хочется, и колется
Опрос содержит вопросы о том, как, по мнению респондентов, должны формироваться главы различных уровней власти (мэры, главы районов, губернаторы): назначаться сверху или избираться гражданами. Можно было бы ожидать, что активность в объединениях усиливает запрос на политическую субъектность, но данные показывают более сложную картину.
В отношении выборов мэра прослеживается обратная ситуация: «высокоактивные» респонденты склонны отвечать, что мэры должны назначаться (22%), среди «низкоактивных» таковых 15%, а среди «неактивных» — 13%. Выбирать глав городов хотели бы 73% «высокоактивных», 76% «неактивных» и 78% «низкоактивных» респондентов. Похожая ситуация с отношением к выборам губернаторов. Большинство респондентов во всех группах хотели бы выбирать глав регионов: 57% «высокоактивных», 62% «низкоактивных» и 60% «неактивных». Однако среди вовлеченных в большое количество общественных объединений больше тех, кто полагает, что главы регионов должны назначаться президентом (около 40%, в других группах на 10 п.п. меньше).
Для глав районов картина иная: высокоактивные чаще выступают за выборность, а низкоактивные — за назначение.
Жизнь других
В российском контексте вовлеченность в общественные объединения действительно выступает важным каналом формирования социального капитала, способствуя выработке доверия и укреплению горизонтальных связей. Эти факторы, согласно классическим теориям, должны быть связаны с большей гражданской активностью, критической позицией и ростом запроса на политическое участие. Однако в условиях авторитарных режимов, где гражданское общество находится под плотным контролем, социальный капитал функционирует иначе: он мобилизует, но не для давления на власть, а для выражения политической лояльности.
Более высокая степень вовлеченности в объединения коррелирует не с критикой властей, а с большей поддержкой ключевых символов и институтов режима: Путина, армии и войны. Среди «высокоактивных» респондентов 54% считают, что их окружение поддерживает «спецоперацию», тогда как среди «неактивных» и «низкоактивных» таких 49%. Это указывает на то, что социальный капитал в современной России выстраивается через прогосударственные каналы, усиливая конформизм за счет встроенности граждан в управляемые социальные сети. Такой «перехват» социального капитала стал возможен благодаря системной политике Кремля по стерилизации независимого гражданского сектора и поощрения лояльных НКО. В этих условиях участие в объединениях становится не выражением субъектности, а формой политической социализации в автократии. Таким образом, горизонтальные связи респондентов — это не угроза власти, а ее ресурс.