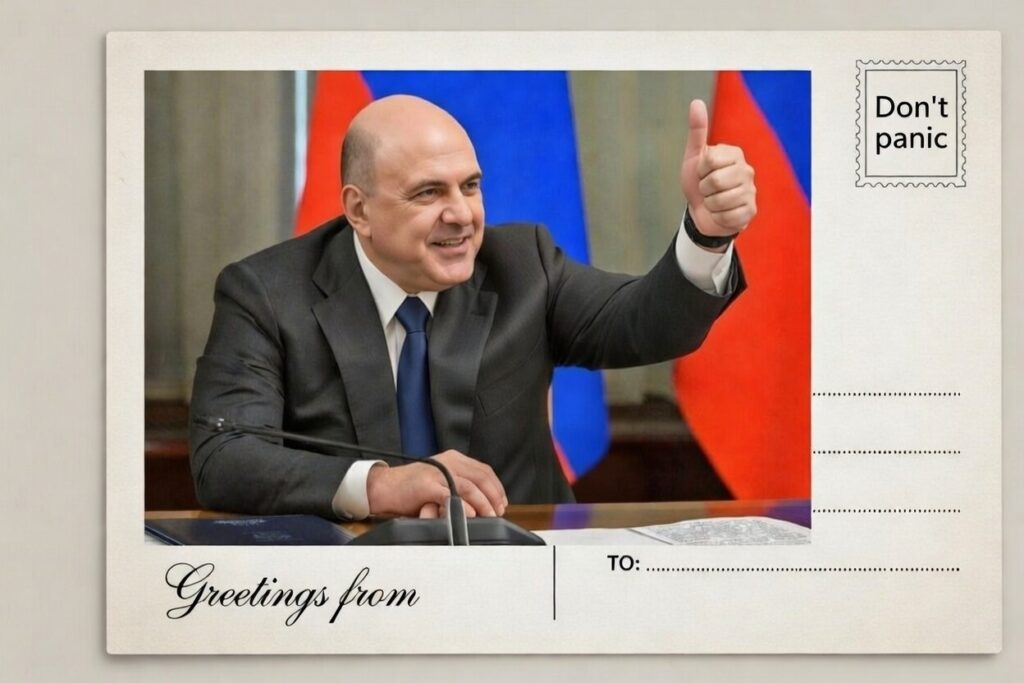В то время как в заголовках СМИ доминирует хаотичный подход администрации Трампа к дипломатическим переговорам с Москвой, анализ внутренней российской политики не обнаруживает существенных подвижек и изменений. В интервью Asharq Business Bloomberg министр финансов РФ Антон Силуанов повторил ключевой тезис: «Наша экономическая и финансовая политика опирается на наши сильные стороны, мы делаем все необходимое, чтобы минимизировать зависимость от внешних факторов, которые влияют на нашу экономику, и проводим сбалансированную бюджетную политику». Если попытаться расшифровать, что на самом деле имеет в виду Силуанов, станет понятнее, почему Путин и его высокопоставленные чиновники пребывают в убеждении, что выигрывают войну, и почему они могут рассматривать нынешний момент как момент для переговоров.
Практически все наблюдатели, включая автора этой статьи, ошиблись — по разным причинам и в разной степени — в оценке состояния и перспектив российской экономики в 2022 году. Среди множества работ, пересматривающих прежние нарративы, предсказывавшие России экономический крах, нельзя не отметить доклад «Надежный тыл диктатора» Сергея Алексашенко, Владислава Иноземцева и Дмитрий Некрасова, подготовленный ими для Европейского центра анализа и стратегий (CASE). В докладе объясняется, почему серьезный экономический кризис маловероятен как минимум в течение ближайших трех-пяти лет, и подчеркивается устойчивость экономики. Авторы считают, что экономическое давление не будет существенно мешать военным действиям и подчеркивают, что наблюдатели недооценили рыночную функциональность России, масштабы ее внутреннего рынка, разнообразие ее товарного экспорта, торговую адаптивность, стабилизирующую роль автаркии (особенно через контроль за движением капитала) и компетентность технократического «экономического блока». Эти тезисы лежат в основе видения Силуановым автаркии, понимаемой не буквально как самодостаточность, а как способность принимать макроэкономические решения практически без оглядки на внешние условия. Эти предположения заслуживают тщательного анализа, особенно на фоне российско-американских переговоров.
Начиная с 2023 года, российские экономические управленцы во главе с Андреем Белоусовым пытаются «продать» администрации президента концепцию «экономики предложения». В понедельник вице-премьер правительства Александр Новак заявил коллегам в Минэкономики, что драйверами роста вместо государственного спроса и повышения зарплат должны стать инвестиции, цифровизация, производительность труда, повышение загрузки производственных мощностей и устранение т.н. «узких мест» в производстве. Постоянный акцент на отвязке экономического роста от [роста] зарплат отражает суровую реальность: инфляцию нельзя усмирить без сдерживания роста зарплат — тезис, впервые выдвинутый перед арестом Алексеем Улюкаевым в качестве средства диверсификации экспорта. «Профессионалы», возможно, отлично справляются с наведением порядка, но их послужной список в сфере инновационных решений не поражает воображение.
Основанный Андреем Белоусовым Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), во главе которого сейчас стоит его брат, в своем декабрьском докладе о текущих макроэкономических тенденциях сообщил о первых официальных признаках снижения реальной заработной платы. Министр экономики Максим Решетников, отвечая Новаку, поддержал это наблюдение ЦМАКП, отметив, что высокие процентные ставки начинают оказывать давление на деловую активность. Согласно опросам, в январе лишь 17% малых и средних предприятий (МСП) были готовы инвестировать и расширяться — это самый низкий показатель со времен мобилизационного шока в ноябре 2022 года. При этом 58% розничных компаний и 50% МСП в сфере производства/обработки сообщили о сокращении инвестиций.
Новый акцент на производительности труда связан с тем, как создается стоимость в экономике, которая для своего уровня развития исторически опирается больше на товары, чем на услуги. Исследование ЦМАКП показывает, что, помимо добычи нефти и газа, наиболее производительными отраслями в России являются информационно-коммуникационные технологии и финансовые услуги ($ 210 000−225 000 на одного работника), за которыми следуют нефтехимия, металлургия и коммерческие услуги ($ 118 000−135 000 на одного работника). Сокращение малого и среднего бизнеса, вероятно, сильнее всего ударило по менее производительным компаниям.
Экономический суверенитет уже давно является неуловимой целью России, стремящейся к автаркии. Помимо скрытой в ней сложности осуществления, автаркия приводит к обнищанию. Если другие страны производят необходимый товар или продукцию более дешево — или по такой же цене, но более высокого качества, чем ваши собственные производители, — вы фактически повышаете внутренние цены, не обязательно при этом повышая производительность настолько, чтобы это компенсировать. Повторите это в разных отраслях, и потребление сократится. Снижение потребления уменьшает стимул предприятий инвестировать в увеличение количества товаров и услуг. Снижение инвестиций в свою очередь замедляет рост заработной платы, поскольку все инвестиции — от сферы строительства до создания программного обеспечения — стимулируют спрос на рабочую силу, создавая рабочие места для укомплектования новых производственных мощностей.
Алексашенко, Иноземцев и Некрасов основывают свои доводы в пользу устойчивой общественной поддержки режима и его военной стойкости на предположениях, которые не вполне согласуются с данными. Они предполагают, что реальные зарплаты выросли у рабочего класса, а основное бремя роста цен легло на богатых потребителей, зависящих от импортных товаров. Однако официальные данные, несмотря на все их изъяны, не показывают существенных изменений в структуре потребления домохозяйств. Как правило, с ростом благосостояния расходы смещаются от трат на жилье и основные продукты питания к потреблению товаров и услуг, а также сбережениям. Данные Росстата не показывают такой тенденции. Между тем, самые богатые — те, кто занят в сфере финансовых услуг, санкционного арбитража или в высокопроизводительных секторах за пределами нефтегазовой отрасли, — лучше всего защищены от инфляции благодаря своей высокой заработной плате и производительности. Авторы предполагают, что резкий рост рублевых сбережений после начала полномасштабного вторжения, вызванный военными выплатами и ростом зарплат, обеспечивает определенный психологический комфорт населения. Но в условиях резкого роста цен на жилье и автомобили (китайский импорт вытеснил отечественное производство, и местные цены могут посоперничать с китайскими) эти сбережения выглядят как попытка отложить что-то «на черный день». Инфляция и неопределенность могут оказаться хуже, чем предполагалось, если люди не начнут делать больше крупных покупок или инвестировать.
Первое официальное снижение реальной заработной платы — важный рубеж, поскольку снижение сигнализирует о смягчении рынка труда, что потенциально может стимулировать приток желающих записаться на военную службу, сулящую финансовые преимущества. Не менее показательно и падение ожиданий по инвестициям в бизнес, что говорит о том, что эффект мультипликатора от военных расходов — рубль, полученный на каждый потраченный рубль, — исчезает при текущих процентных ставках. Несмотря на избыток трудовых ресурсов, война уже унесла более 800 000 жизней, а потери сравнялись с показателями смертности от Covid-19 до начала широкой вакцинации Спутником. Фискальные стимулы теряют свою силу, если они структурно приводят к росту инфляции из-за экономического и демографического ущерба от войны. Странно, что авторы доклада ссылаются на 2015−2016 гг. в качестве доказательства толерантности Путина к стимулам: тот дефицит был вызван обвалом цен на нефть, и не был сознательным выбором. В бюджетах Силуанова на 2017−2019 гг. номинальные расходы ежегодно сокращались, что закрепило привычку сокращать на 10% реальные расходы во время потрясений — эта модель сохраняется и сегодня. Даже сейчас дефицит бюджета остается скромным, несмотря на возможности для привлечения дополнительных заимствований.
Никакой возможный «экономический кризис» не заставит Кремль начать переговоры. Ухудшение экономических условий могло бы даже способствовать мобилизации. Но «надежный тыл» диктатора не останется надежным и стабильным навечно. Кремль, вероятно, сможет поддерживать войну в течение многих лет, но экономические дисбалансы, управляемые «профессионалами», усугубляются и все меньше поддаются технократическому исправлению. Повседневная жизнь будет все больше милитаризироваться и попадать под репрессивный каток: режим тщательно балансирует, избегая полной национальной мобилизации и используя рыночные механизмы для выкачивания рабочей силы и мощностей из гражданской экономики.